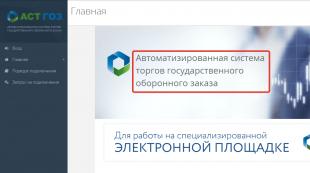Владимир Сорокин: Сердца четырех. Сердца четырех
Дмитрий Быков: Дорогие друзья! В нашем проекте «Сто лет ― сто книг» мы подобрались к 1991 году, последнему году советской власти. В этом году Владимир Сорокин закончил роман «Сердца четырех», тогда же по рукописи номинированный на первую Букеровскую премию и дошедший до шорт-листа, а напечатанный полностью только в 1994 году в альманахе «Конец века».
«Сердца четырех», наверно, самый дискуссионный, самый эпатажный, в каком-то смысле самый точный роман Сорокина, потому что атмосферу девяностых автор почувствовал с невероятной точностью и чуткостью. Я помню, что книга эта меня взбесила и я соответствующие рецензии тогда печатал. Не то что бы я хотел как-то взять эти слова назад, нет. Меня до сих пор многое в этой книге раздражает, но она и должна раздражать.
Главное, что меня в ней как-то бесит, это несоответствие замысла и воплощения. Придумана она чрезвычайно изящно, а написана очень грубо, очень жестоко. Но, с другой стороны, реальность тогда довольно быстро начала превосходить самые бурные фантазии Сорокина.
Идея была чрезвычайно изящна ― написать роман, где герои совершают ряд совершенно бессмысленных действий, как если бы у них был какой-то смысл ― мы всё ждем, что он будет открываться. Действия эти абсолютно абсурдны. И всё это для того, чтобы четыре кубика, сделанные из главных героев, остановились вот с такой комбинацией цифр. В сущности, вся наша жизнь ― это абсурдные действия ради безумной или не упоминаемой цели. Если при такой высоте взгляда, мы все что-то делаем непонятно зачем, и делаем чаще всего абсурдные, странные вещи.
Там этих абсурдных вещей очень много, они придуманы замечательно. Например, это изготовление огромной металлической личинки клеща, которую после этого зачем-то помещают в кипящее масло. Это отрезание, простите, головки члена у отца одного из героев и долгий перенос этой головки за щекой. Это изготовление так называемой жидкой матери, где мать Реброва сначала душат, а потом превращают с помощью соответствующего прибора в такую жидкую массу. И носят они везде с собой этот чемодан с жидкой матерью.
Естественно, как всегда у Сорокина, там очень много кала и калоедства, очень много вещей, которые действительно невозможно прочитать без тошноты. И мне почему-то кажется, что если бы там было меньше, простите, всякой дефекации в рот, ― а там есть и такая сцена, ― всякого насилования в мозг, роман производил бы более сильное впечатление, потому что изящество схемы не заслонялось бы всё время мясными и фекальными деталями фактуры, самой ткани.
Но, с другой стороны, ведь девяностые годы прошли под этим знаком. Мария Васильевна Розанова, прочитав этот роман, сказала: «С некоторых пор я замечаю у Сорокина клычки, такие вампирские клычки», хотя именно она первой напечатала роман «Очередь», который принес Сорокину славу. Да, клычки некоторые видны, но, с другой стороны, Сорокин прав, когда говорит, что с бумажным героем можно делать всё, что угодно. Он всё время повторял тогда: «Но буквы ― это же только знаки на бумаге».
Ну, как оказалось, не только, но я против вот такой мысли, что Сорокин отвечает за кровавую сущность девяностых. Это он по-писательски почувствовал эту кровавую сущность девяностых. И такие ли жидкие матери, такие ли калоедства имели место тогда? Сейчас, когда мы, например, в романе Алексея Иванова «Ненастье» читаем описание тогдашних разборок, они нас еле щекочут. А для сознания девяностых годов это был действительно шок.
Кроме того, один из авторов недавно, не помню уже сейчас, кто, довольно точно написал, что Сорокин верно почувствовал оккультную природу девяностых. Это то, о чем впоследствии несколько мягче написал Пелевин в «Числах». Действительно, цели и смыслы исчезли. Остались цифры, числа. Вместо этики остались какие-то математические зависимости, что замечательно показал, скажем, тот же фон Триер в «Нимфоманке», да, там все действия героини подчинены рядам Фибоначчи.
Числа правят миром. И действительно, когда сердца четырех в виде ледяных кубиков останавливаются вот в такой числовой последовательности, наверно, в этом есть паганизм такой, языческая, культовая, ритуальная, оккультная сущность девяностых. Ведь в самом деле, и Пелевин говорит о том, что руководствоваться соображениями пользы в девяностые было совершенно невозможно. Можно было руководствоваться привязанностью к числам, к цифре 3, к цифре 4. Я, кстати, думаю до сих пор, что «Числа» ― лучший, самый точный и веселый роман Пелевина.
Так вот, действительно, можно сказать, что девяностые были временем такого ожившего синдрома навязчивых ритуалов, такой обсессией. Когда у человека нет убеждений, а есть травма, у него появляется обсессия. Можно сказать, что роман Сорокина ― это памятник обсессиям, сразу многим, в том числе и болезненной привязанности к теме копрофагии.
По жанру, как и большинство текстов Сорокина, это пародия ― почему мне и кажется, что он такой Александр Иванов нашего времени, но просто это принято считать постмодернизмом, хотя никакого постмодернизма в этом нет. Все великие тексты по жанру пародии, даже Евангелие ― пародия на Ветхий Завет. И «Дон Кихот», как мы знаем, пародия, и «Гамлет», а уж «Горе от ума» ― пародия на «Гамлета». В общем, пародия ― это инструмент движения литературы. Благодаря пародии, пародической функции литература развивает себя.
«Сердца четырех» ― это пародия на всё сразу. И хотя Владимир Новиков тогда в замечательной пародии на «Сердца четырех» писал: «Стояла жатва, клятва и битва в пути», наверно, всё-таки Сорокин этим не исчерпывается. Да, герои «Сердец четырех» ― это классические герои советской литературы: такой героический мальчик Сережа, девушка-спортсменка, универсальный солдат Оленька, ветеран войны, одноногий Штаубе и хмурый Ребров, который даже самой фамилией своей намекает на некоторую свою ребристость, жесткость. Не будем забывать, что Ребров ― герой одной из лучших повестей Трифонова «Долгое прощание».
Вот этот мрачный тип, советский инженер, он же разведчик, он же спецназовец, ветеран, пионер и красавица ― они все вместе олицетворяют образцовый набор совлита, но попавший в принципиально новые условия. Вместо того, чтобы спасать от аварий на производстве или от пожара или бросаться, соответственно, в прорубь, они совершают ряд непостижимо абсурдных действий и гибнут сами.
Есть там один очень откровенный эпизод, когда проводницу, беременную вдобавок, простите, трахают в мозг, просто стесав ей затылок и членом проникая в мозговое вещество. Это точная совершенно метафора идеологического изнасилования. И вот что я скажу: когда, знаете, в девяностые годы я читал Сорокина, это раздражало, а сейчас это радует, потому что вернулся контекст. Всегда хочется советского положительного героя посадить на кол или сделать с ним что-нибудь вроде того, что делают с этой проводницей. Ну он достал, ну он везде, он такой положительный! Всегда хочется схватить его за маленькие крепкие уши и по возможности оторвать.
Так вот, когда вернулся контекст, вернулось и очарование прозы Сорокина. «Сердца четырех» читаются сегодня как своего рода антипроизводственный роман. А надо вам сказать, что производственный роман очень мало чем отличается от мафиозно-криминального, просто в одном бетон производят, а в другом в него закатывают. И нужно сказать, что когда сегодня читаешь эту книгу, возникает какое-то здоровое мстительное чувство, понимаете? Это приятно.
Я уже не говорю о том, что некоторые эпизоды, например, монолог Штаубе, где он начинает свою речь с апологии эбонитовых смол, а заканчивает историей о варёных детях, воспринимаются уже не просто как пародия. Это воспринимается как проявление какой-то хтонической, звериной сути любой местной идеологии, неважно, идеология ли это дикого капитализма, шоковой терапии, либерализма, консерватизма, суверенности. Это всё уже не важно. Я думаю, что после «Сердец четырех» писать «Сахарный Кремль» было уже не обязательно.
Этот небольшой роман вызвал тогда сенсацию, и, конечно, к такому ожогу ещё не была готова советская проза, но уже годах в 1994-1995, когда были напечатаны и «Роман», и «Норма», два самых обширных и, думаю, главных произведения Сорокина, шок этот несколько улегся. И очень скоро Сорокин действительно оказался главным российским писателем, наряду с Пелевиным, но в чем-то и главнее Пелевина. Сам Сорокин определил эту разницу, говоря: «Я всё-таки героин, а Пелевин ― так, марихуана». Это было сказано вполне дружелюбно. И действительно, Пелевин ― гораздо более легкий наркотик.
Надо сказать, что поскольку сутью литературы является не повествование, а магия, способность в читателя вставить свои глаза, способность писателя вставить свои глаза читателю, в этом смысле Сорокин действительно более писатель, чем почти все его современники. Он не просто гениальный стилизатор. Ну, как гениальный? Иногда он стилизует очень хорошо, под Платонова, например. Под Льва Толстого это труднее, у него уже не очень получается. Да, под Пелевина не получилось вовсе.
Но как бы то ни было, он умеет заставить читателя какое-то время видеть в мире только абсурд, ужас, репрессию, обсессию и вот это уродство. Думается, применительно к советской, постсоветской реальности девяностых годов он был не так уж и неправ. Другое дело, что попытки Сорокина сконструировать собственные сюжеты, например, в «Ледовой трилогии», как правило, приводят к тому, что он изготавливает велосипед. Но когда он разбирает чужие велосипеды, ему нет равных.
Впрочем, одна блестящая удача, рассказ «Белая лошадь», была у него уже и в XXI веке. Но при всём при этом как бы мы к Сорокину ни относились, по крайней мере, за одно надо быть ему благодарным. Лучшего способа преодоления советских и постсоветских неврозов, пожалуй, всё ещё нет. Я не говорю уже о том, что и «Сердца четырех» оказались бессмертны, потому что все эти типажи ― и мальчик, и Ребров, и Штаубе, и Оленька ― продолжают своё триумфальное шествие по реальности.
Более того, как в текстах недавнего юбиляра Стивена Кинга, которого мы от души поздравляем, они преследуют писателя. Когда «Наши» пришли травить Сорокина под его окно ― это «Сердца четырех» пришли к нему, это Оленька и Сережа под руководством Реброва и Штаубе пришли выразить негодование своему создателю. Думаю, что это самая высокая литературная награда, которая может быть.
Последний роман Сорокина («Манарага»), как и предпоследний («Теллурия»), меня ничем, собственно, не удивил. Последние мои теплые впечатления от Сорокина связаны с повестью «Метель», повестью теплой и неожиданно сентиментальной. Там вот эти лошадки маленькие, да, и доктор. Там много придумано хорошо. Она, конечно, сознательно вполне стилизована под «Хозяина и работника» толстовского, но, стилизуясь под Толстого, всегда становишься, как он, могуч и сентиментален.
Для меня последняя удача Сорокина ― это вот эта вещь. Что касается «Дня опричника», такого транспонированного под современность Алексея Константиновича Толстого с «Князем Серебряным», тоже мне кажется эта вещь в некоторых отношениях пророческой: «Скажем, что же будет, будет ничего». В других ― всё-таки фельетонной, в-третьих, замечательно изобретательной, потому что сцена запуска рыбки в вену ― это, конечно, блистательно, это очень хорошо придумано.
Теллуровый гвоздь в «Теллурии» уже кажется мне несколько более примитивным. Мне вообще кажется, что чем Сорокин безумнее, тем он лучше. Когда он совершенно отвязывается от реальности, тут получается что-то блестящее. В этом смысле «Манарага» никаких блестящих новшеств не сулит. Я жду от Сорокина (и верю, что дождусь) большого и очень страшного романа, который, безусловно, вернет нам в каком-то смысле «Сердца четырех», но на новом уровне.
Правда, одно уже Сорокин действительно заслужил. Уже девяностые годы, а отчасти и нулевые ― это его эпоха, ничего не поправишь. Правда, это и эпоха Пелевина тоже, но, как известно, комбинация наркотиков всегда действует сильнее, что что-нибудь одно. Поэтому, увлекаясь Пелевиным, я советую вам всё-таки иногда перечитывать, как я перечитываю, и Сорокина, чтобы вы напомнили себе, на каком зыбком и кровавом фундаменте стоит мир.
Ну а в следующий раз мы поговорим ещё об одном каноническом авторе девяностых ― о Людмиле Петрушевской.
Олег толкнул дверь ногой и вошел в булочную. Народу было немного. Он прошел к лоткам, взял два белых по двадцать и половину черного. Встал в очередь за женщиной. Вскоре очередь подошла.
– Пятьдесят, – сказала седая кассирша.
Олег дал рубль.
– Ваши пятьдесят, – дала сдачу кассирша.
Прижав хлеб к груди, он двинулся к выходу. Выйдя на улицу, достал полиэтиленовый пакет, стал совать в него хлеб. Батон выскользнул из рук и упал в лужу.
– Черт… – Олег наклонился и поднял батон. Он был грязный и мокрый. Олег подошел к урне и бросил в нее батон. Затем взял пакет поудобней и двинулся к своему дому.
– Эй, парень, погоди! – окликнули сзади.
Олег оглянулся. К нему подошел, опираясь на палку, высокий старик. На нем было серое поношенное пальто и армейская шапка-ушанка. В левой руке старик держал авоську с черным батоном. Лицо старика было худым и спокойным.
– Погоди, – повторил старик, – тебя как зовут?
– Меня? Олег, – ответил Олег.
– А меня Генрих Иваныч. Скажи, Олег, ты сильно торопишься?
– Да нет, не очень.
Старик кивнул головой:
– Ну и ладно. Ты наверняка вон в той башне живешь. Угадал?
– Угадали, – усмехнулся Олег.
Они пошли рядом.
– Знаешь, Олег, больше всего на свете не терплю я, когда морали читают. Никогда этих людей не уважал. Помню, до войны еще отдали меня летом в пионерский лагерь. И попался нам вожатый, эдакий моралист. Все учил нас, пацанов, какими нам надо быть. Ну и, короче, сбежал я из того лагеря…
Некоторое время старик шел молча, скрипя протезом и глядя под ноги. Потом снова заговорил:
– Когда война началась, мне четырнадцать исполнилось. Тебе сколько лет?
– Тринадцать, – ответил Олег.
– Тринадцать, – повторил старик. – Ты про Ленинградскую блокаду слышал?
– Ну, слышал…
– Слышал, – повторил старик, вздохнул и продолжил: – Мы тогда с бабушкой да с младшей сестренкой Верочкой остались. Отца в первый день, двадцать второго июня, под Брестом. Старшего брата – под Харьковом. А маму на Васильевском, в бомбоубежище завалило. И остались мы – стар да мал. Бабуля в больницу пристроилась, Верочку на дежурства с собой брала, а я на завод пошел. Научили меня, Олег, недетской работе – снаряды для «Катюш» собирать. И за два с половиной года собрал я их столько, что хватило бы на фашистскую дивизию. Вот. Если бы не начальнички наши вшивые, во главе со Ждановым, город бы мог нормально продержаться. Но они тогда жопами думали, эти сволочи, и всех нас подставили: о продовольствии не позаботились, не смогли сохранить. Немцы Бадаевские склады сразу разбомбили, горели они, а мы, пацаны, смеялись. Не понимали, что нас ждет. Сгорело все: мука, масло, сахар. Потом, зимой, туда бабы ходили, землю отковыривали, варили, процеживали. Говорят, получался сладкий отвар. От сахара. Ну, и в общем, пайка хлеба работающему двести грамм, иждивенцу – сто двадцать пять. Как Ладога замерзла, Верочку – на материк, по «дороге жизни». Сам ее в грузовик подсаживал. Бабуля крестилась, плакала: хоть она выживет. А потом уже, когда блокаду сняли, узнал – не доехала Верочка. Немцы налетели, шесть грузовиков с детьми и ранеными – под лед…
Старик остановился, достал скомканный платок. Высморкался.
– Вот, Олег, какие были дела. Но я тебе хотел про один случай рассказать. Вторая блокадная зима. Самое тяжелое время. Я, может, и вынес это, потому что пацаном был. Бабуля умерла. Соседи умерли. И не одни. Каждое утро кого-то на саночках везут. А я на заводе. В литейный зайдешь, погреешься. И опять к себе на сборку. Вот. И накануне Нового года приходит ко мне папин сослуживец, Василий Николаич Кошелев. Он к нам иногда заглядывал, консервы приносил, крупу. Бабулю хоронить помог. Заходит и говорит: ну, стахановец, одевайся. Я говорю – куда? Секрет, говорит. Новогодний подарок. Оделся. Пошли. И приводит он меня на хлебзавод. Провел через проходную – и к себе в кабинет. А он там секретарем парткома был. Дверь на ключ. Открывает сейф, достает хлеб нарезанный и банку тушенки. Налил кипятку с сахарином. Ешь, говорит, стахановец. Не торопись. Навалился я на тушенку, на хлеб. А хлеб этот, Олег, ты б, наверно, и за хлеб-то не принял. Черный он, как чернозем, тяжелый, мокрый. Но тогда он для меня слаще любого торта был. Съел я все, кипятком запил и просто опьянел, упал и встать не могу. Поднял он меня, к батарее на тюфяк положил. Спи, говорит, до утра. А он там круглые сутки работал. Отключился я, утром он меня разбудил. Опять накормил, но поменьше. А теперь, говорит, пойдем, я тебе наше хозяйство покажу. Повел меня по цехам. Увидел я тысячи батонов, тысячи. Как во сне плывут по конвейеру. Никогда не забуду. А потом заводит он меня в кладовку. А там ящик стоял. Ящик с хлебными крошками. Знаешь, его в конце конвейера ставили, и крошки туда сыпались. Вот. Берет Василий Николаич совок – и мне в валенки. Насыпал этих самых крошек. Ну и говорит: с Новым годом тебя, защитник Ленинграда. Ступай домой, на проходной не задерживайся. И пошел я. Иду по городу, снег, завалы, дома разбитые. А в валенках крошки хрустят. Тепло так. Хорошо. Я тогда эти крошки на неделю растянул. Ел их понемногу. Потому и выжил, что он мне крошек этих в валенки сыпанул. Вот, Олег, и вся история. А вот и дом твой, – старик показал палкой на башню.
Олег молчал. Старик поправил ушанку, кашлянул:
– И вот какая штука, Олег. Вспомнилось мне все это сейчас. Когда ты батон белого хлеба в урну выбросил. Вспомнил эти крошки, бабушку окоченевшую. Соседей мертвых, опухших от голода. Вспомнил и подумал: черт возьми, жизнь все-таки сумасшедшая штука. Я тогда на хлебные крошки молился, за крысами охотился, а теперь вон белые батоны в урну швыряют. Смешно и грустно. Ради чего все эти муки? Ради чего столько смертей?
Он замолчал.
Олег помедлил немного, потом произнес:
– Ну… знаете. Я это. В общем… ну больше такого не повторится.
– Правда? – грустно улыбнулся старик.
– Обещаешь?
– Обещаю.
– Ну и слава богу. А то я, признаться, волновался, когда с тобой заговорил. Думаю, послушает, послушает парень старого пердуна, да и сбежит, как я тогда из пионерского лагеря!
– Да нет, что вы. Я все понял. Просто… ну, по глупости это. Больше никогда хлеб не брошу.
– Ну и отлично. Хорошо. Не знаю, как другие, а я в ваше поколение верю. Верю. Вы Россию спасете. Уверен. Я тебя не задержал?
– Да нет, что вы.
– Тогда, может, теперь ты меня до дома проводишь? Вон до того.
– Конечно, провожу. Давайте вашу авоську.
– Ну, спасибо, – старик с улыбкой передал ему авоську с хлебом, положил ему освободившуюся руку на плечо и пошел рядом.
– А где вас ранило? – спросил Олег.
– Нога? Это отдельная история. Тоже не слабая, хоть роман пиши.. Но хватит о тяжелом. Ты в каком классе учишься?
– В шестом. Вон в той школе.
– Ага. Как учеба?
– Нормально.
– Друзья есть верные?
– А подруги?
Олег пожал плечами и усмехнулся.
– Ничего, пора уже мужчиной себя чувствовать. В этом возрасте надо учиться за девочками ухаживать. А через год-полтора можно уже и поебаться. Или ты думаешь – рано?
– Да нет, – засмеялся Олег. – Не думаю.
– Правильно. Я тоже тогда не думал. После блокады знаешь сколько девок да баб осталось без мужей. Бывало, идешь по Невскому, а они так и смотрят. Завлекательно. А однажды в кино пошел. Первое кино после блокады. «Александра Невского» показывали. А рядом женщина сидела. И вдруг в середине фильма чувствую – она мне руку на колено. Я ничего. Она ширинку расстегнула и за член меня. А сама так и дрожит. Я сижу. А она наклонилась и стала мне член сосать. Знаешь, как приятно. Я прямо сразу и кончил ей в рот. А на экране – ледовое побоище! А она мне шепчет – пошли ко мне. Ну и пошли к ней. На Литейный. Еблись с ней целые сутки. Что она только со мной не делала! Но сосать умела, просто как никто. Так нежно-нежно, раз, раз и кончаю уже. Тебе никто не сосал?
Владимир Сорокин
Назв_Произв:
Сердца четырех
Копирайт:
© Владимир Сорокин, 1991
Олег толкнул дверь ногой и вошел в булочную. Народу было немного. Он прошел к лоткам, взял два белых по двадцать и половину черного. Встал в очередь за женщиной. Вскоре очередь подошла.
Пятьдесят, - сказала седая кассирша.
Олег дал рубль.
Ваши пятьдесят, - дала сдачу кассирша.
Прижав хлеб к груди, он двинулся к выходу. Выйдя на улицу, достал полиэтиленовый пакет, стал совать в него хлеб. Батон выскользнул из рук и упал в лужу.
Черт... - Олег наклонился и поднял батон. Он был грязный и мокрый. Олег подошел к урне и бросил в нее батон. Затем взял пакет поудобней и двинулся к своему дому.
Эй, парень, погоди, - окликнули сзади.
Олег оглянулся. К нему подошел, опираясь на палку, высокий старик. На нем было серое поношенное пальто и армейская шапка-ушанка. В левой руке старик держал авоську с черным батоном. Лицо старика было худым и спокойным.
Погоди, - повторил старик, - тебя как зовут?
Меня? Олег, - ответил Олег.
А меня Генрих Иваныч. Скажи, Олег, ты сильно торопишься?
Да нет, не очень.
Старик кивнул головой:
Ну и ладно. Ты наверняка вон в той башне живешь. Угадал?
Угадали, - усмехнулся Олег.
Они пошли рядом.
Знаешь, Олег, больше всего на свете не терплю я, когда морали читают. Никогда этих людей не уважал. Помню, до войны еще отдали меня летом в пионерский лагерь. И попался нам вожатый, эдакий моралист. Все учил нас, пацанов, какими нам надо быть. Ну и, короче, сбежал я из того лагеря...
Некоторое время старик шел молча, скрипя протезом и глядя под ноги. Потом снова заговорил:
Когда война началась, мне четырнадцать исполнилось. Тебе сколько лет?
Тринадцать, - ответил Олег.
Тринадцать, - повторил старик. - Ты про Ленинградскую блокаду слышал?
Ну, слышал...
Слышал, - повторил старик, вздохнул и продолжил: - Мы тогда с бабушкой да с младшей сестренкой, Верочкой, остались. Отца в первый день, двадцать второго июня, под Брестом. Старшего брата - под Харьковом. А маму. На Васильевском в бомбоубежище завалило. И остались мы - стар да мал. Бабуля в больницу пристроилась, Верочку на дежурства с собой брала, а я на завод пошел. Научили меня, Олег, недетской работе - снаряды для «катюш» собирать. И за два с половиной года собрал я их столько, что хватило бы на фашистскую дивизию. Вот. Если бы не начальнички наши вшивые во главе со Ждановым, город бы мог нормально продержаться. Но они тогда жопами думали, эти сволочи, и всех нас подставили: о продовольствии не позаботились, не смогли сохранить. Немцы Бадаевские склады сразу разбомбили, горели они, а мы, пацаны, смеялись. Не понимали, что нас ждет. Сгорело все: мука, масло, сахар. Потом, зимой, туда бабы ходили, землю отковыривали, варили, процеживали. Говорят, получался сладкий отвар. От сахара. Ну, и в общем, пайка хлеба работающему 200 грамм, иждивенцу - 125. Как Ладога замерзла, Верочку - на материк, по «дороге жизни». Сам ее в грузовик подсаживал. Бабуля крестилась, плакала: хоть она выживет. А потом уже, когда блокаду сняли, узнал - не доехала Верочка. Немцы налетели, шесть грузовиков с детьми и ранеными - под лед...
Старик остановился, достал скомканный платок. Высморкался.
Вот, Олег, какие были дела. Но я тебе хотел про один случай рассказать. Вторая блокадная зима. Самое тяжелое время. Я, может, и вынес это, потому что пацаном был. Бабуля умерла. Соседи умерли. И не одни. Каждое утро кого-то на саночках везут. А я на заводе. В литейный зайдешь, погреешься. И опять к себе на сборку. Вот. И накануне Нового года приходит ко мне папин сослуживец. Василий Николаич Кошелев. Он к нам иногда заглядывал, консервы приносил, крупу. Бабулю хоронить помог. Заходит и говорит: ну, стахановец, одевайся. Я говорю - куда? Секрет, говорит. Новогодний подарок. Оделся. Пошли. И приводит он меня на хлебзавод. Провел через проходную. И к себе в кабинет. А он там секретарем парткома был. Дверь на ключ. Открывает сейф, достает хлеб нарезанный и банку тушенки. Налил кипятку с сахарином. Ешь, говорит, стахановец. Не торопись. Навалился я на тушенку, на хлеб. А хлеб этот, Олег, ты б, наверно, и за хлеб-то не принял. Черный он, как чернозем, тяжелый, мокрый. Но тогда он для меня слаще любого торта был. Съел я все, кипятком запил и просто опьянел, упал и встать не могу. Поднял он меня, к батарее на тюфяк положил. Спи, говорит, до утра. А он там круглые сутки работал. Отключился я, утром он меня разбудил. Опять накормил, но поменьше. А теперь, говорит, пойдем, я тебе наше хозяйство покажу. Повел меня по цехам. Увидел я тысячи батонов, тысячи. Как во сне, плывут по конвейеру. Никогда не забуду. А потом заводит он меня в кладовку. А там ящик стоял. Ящик с хлебными крошками. Знаешь, его в конце конвейера ставили, и крошки туда сыпались. Вот. Берет Василий Николаич совок - и мне в валенки. Насыпал этих самых крошек. Ну и говорит: «С Новым годом тебя, защитник Ленинграда. Ступай домой, на проходной не задерживайся». И пошел я. Иду по городу, снег, завалы, дома разбитые. А в валенках крошки хрустят. Тепло так. Хорошо. Я тогда эти крошки на неделю растянул. Ел их понемногу. Потому и выжил, что он мне крошек этих в валенки сыпанул. Вот, Олег, и вся история. А вот и дом твой, - старик показал палкой на башню.
Олег молчал. Старик поправил ушанку, кашлянул:
И вот какая штука, Олег. Вспомнилось мне все это сейчас. Когда ты батон белого хлеба в урну выбросил. Вспомнил эти крошки, бабушку окоченевшую. Соседей мертвых, опухших от голода. Вспомнил и подумал: черт возьми, жизнь все-таки сумасшедшая штука. Я тогда на хлебные крошки молился, за крысами охотился, а теперь вон - белые батоны в урну швыряют. Смешно и грустно. Ради чего все эти муки? Ради чего столько смертей?
Он замолчал.
Олег помедлил немного, потом произнес:
Ну... знаете. Я это. В общем... ну, больше такого не повторится.
Правда? - грустно улыбнулся старик.
Обещаешь?
Ну и слава Богу. А то я, признаться, волновался, когда с тобой заговорил. Думаю, послушает, послушает парень старого пердуна, да и сбежит, как я тогда из пионерского лагеря!
Да нет, что вы. Я все понял. Просто... ну, по глупости это. Больше никогда хлеб не брошу.
Ну и отлично. Хорошо. Не знаю, как другие, а я в ваше поколение верю. Верю. Вы Россию спасете. Уверен. Я тебя не задержал?
Да нет, что вы.
Тогда, может, теперь ты меня до дома проводишь? Вон до того.
Конечно, провожу. Давайте вашу авоську.
Ну, спасибо, - старик с улыбкой передал авоську с хлебом, положил ему освободившуюся руку на плечо и пошел рядом.
А где вас ранило? - спросил Олег.
Нога? Это отдельная история. Тоже не слабая, хоть роман пиши... Но хватит о тяжелом. Ты в каком классе учишься?
В шестом. Вон в той школе.
Ага. Как учеба?
Нормально.
Друзья есть верные?
А подруги?
Олег пожал плечами и усмехнулся.
Ничего, пора уже мужчиной себя чувствовать. В этом возрасте надо учиться за девочками ухаживать. А через год-полтора можно уже и поебаться. Или ты думаешь - рано?
Да нет, - засмеялся Олег. - Не думаю.
Правильно. Я тоже тогда не думал. После блокады знаешь сколько девок да баб осталось без мужей. Бывало, идешь по Невскому, а они так и смотрят. Завлекательно. А однажды в кино пошел. Первое кино после блокады. «Александра Невского» показывали. А рядом женщина сидела. И вдруг в середине фильма чувствую - она мне руку на колено. Я ничего. Она ширинку расстегнула и за член меня. А сама так и дрожит. Я сижу. А она наклонилась и стала мне член сосать. Знаешь, как приятно. Я прямо сразу и кончил ей в рот. А на экране - Ледовое побоище! А она мне шепчет - пошли ко мне. Ну и пошли к ней. На Литейный. Еблись с ней целые сутки. Что она только со мной не делала! Но сосать умела, просто как никто. Так нежно-нежно, раз, раз и кончаю уже. Тебе никто не сосал?
Да нет, - мотнул головой Олег.
Ничего, все впереди. Вот мы и пришли! - Старик остановился возле блочной пятиэтажки. - Вот моя деревня, вот мой дом родной. Спасибо тебе за прогулку.
Да не за что, - Олег передал старику авоську.
Ага! А это что за дела? - Старик показал палкой на зеленый строительный вагончик, стоящий рядом с домом под деревьями. Дверь вагончика была приоткрыта. - Я, как старый флибустьер, пройти мимо не могу. За мной, юнга! - махнул он авоськой и захромал к вагончику.
Олег двинулся следом.
Дверь открыта, замка нет, свет не горит. Никак, побывали краснокожие!
Они подошли к вагончику. Старик поднялся по ступенькам, вошел. Нащупал выключатель, пощелкал:
Ага. Света нет. За мной, Олег.
Олег вошел следом. Внутри вагончика было тесно. Пахло краской и калом. Уличный фонарь через окошко освещал стол, стулья, ящики, банки с краской и тряпье.
Ну вот, - пробормотал старик и вдруг, отбросив палку и авоську, опустился перед Олегом на колено, неловко оттопырив протез. Его руки схватили руки Олега. - Олег! Милый, послушай меня... я старый несчастный человек, инвалид войны и труда... милый... у меня радостей-то хлеб да маргарин... Олег, миленький мой мальчик, прошу тебя, позволь мне пососать у тебя, милый, позволь, Христа ради!
Олег попятился к двери, но старик цепко держал его руки:
Миленький, миленький, тебе так хорошо будет, так нежно... ты сразу поймешь... и научишься, и с девочками тогда сразу легче будет, позволь, милый, немного, я тебе сразу... и вот я тебе десятку дам, вот, десятку!
Старик сунул руку в карман и вытащил ком бумажных денег:
Вот, вот, десять... двадцать, четвертной, милый! Христа ради!
Ну что... - Олег вырвал руку и выскочил за дверь, сбив со стола банку с окурками.
Потеряв равновесие, старик упал на пол и некоторое время лежал, всхлипывая и бормоча.
Вдруг в двери показалась фигура мальчика.
Олег! Умоляю! - дернулся старик.
Не Олег, - тихо ответил мальчик, входя.
Сережка? Следишь, стервец... Господи...
Генрих Иваныч, а я Реброву все расскажу, - произнес мальчик, притворяя дверь.
Стервец, ну, стервец... - заворочался старик, приподнимаясь, - стервецы, сволочи... Господи, какие гады...
Мальчик подошел к окну и стоял, поглядывая на старика. Старик нашел палку, собрал деньги и, стоя на колене, засовывал бумажки в карман пальто:
И все против меня. Все и все. Я же не клоун, Господи...
Вы же договор подписали, - проговорил мальчик, - а сами опять...
Сережа... Сережа! - Старик подполз к нему, обхватил его ноги, прижался лицом к куртке. - Бессердечные... люди...
Вдруг он отстранился и почти выкрикнул:
Вот что, стервец, ты меня не учи!
Я-то учить не буду. Ребров будет учить.
Я плевать, плевать хотел! - затрясся старик. - Я срал и ссал на вас! Срал и ссал! Гады! Я сам ответственный! Сам!
Мы все - сами... - Мальчик посмотрел в окно.
И вот что, Сережа, - строго произнес старик. - Ты со мной не пререкайся!
А я и не пререкаюсь. - Мальчик подышал на стекло и вытер запотевшее место пальцем.
Ну-ка, - старик стал расстегивать ему штаны.
Мальчик недовольно вздохнул и стал помогать ему. Обхватив мальчика за обнажившиеся ягодицы, старик поймал ртом его маленький член и замер, постанывая. Сережа подышал на стекло и вывел на запотевшем месте свастику. Старик стонал. Жилистые пальцы его мяли Сережины ягодицы. Мальчик взял его за голову и стал двигаться, помогая. Старик застонал громче. Оттопыренный протез его дрожал, ударяя по ножке стола. Мальчик закрыл глаза. Губы его открылись.
Тесно, - проговорил он.
Старик замычал.
Тесно, тесно... - зашептал Сережа. - Тесно... ну... тесно...
Старик мычал. Мальчик дважды вздрогнул и перестал двигаться. Старик отпустил его, откинулся назад и задышал жадно, всхлипывая.
Ах... ах... сладенький... ах... - бормотал старик. Мальчик наклонился, потянул вверх штаны. - Ох... Божья роса... маленький... - Старик поцеловал его член, вытер губы и тяжело встал с пола.
Сережа застегнулся, поправил куртку, достал из кармана часы на цепочке:
Без трех семь.
Еби твою мать... щас, щас... фу... - Старик привалился к ящикам, взявшись рукой за грудь. - Дай подышать... охо...
А газ? Не забыли? - спросил Сережа.
Все... все в порядке... ой. Как встал вот резко, так сразу в голову... фу... пошли... - Старик оттолкнулся от ящиков, вышел за дверь и стал осторожно спускаться по ступенькам.
Генрих Иваныч, а хлеб? - Выходя, Сережа заметил авоську с батоном.
А, хуй с ним, - пробормотал старик.
Старик позвонил в дверь: три коротких, один долгий. Дверь сразу открыли, они с Сережей быстро вошли.
Генрих Иваныч, как это понимать? - спросил Ребров, запирая дверь на цепочку. - Сережа?
Как понимать, как понимать, - забормотал старик, расстегивая пальто. - Так понимать, что мне не тридцать пять, а шестьдесят шесть...
Виктор Валентиныч, час пик еще не кончился. - Сережа снял шапку и кинул ее на вешалку.
Двадцать минут! Куда это годится? - Ребров помог старику снять пальто.
Ну, ничего, ничего, - бормотал старик, снимая калошу концом палки.
Пройдя по коридору, они вошли в большую пустую комнату. Пестрецова сидела на подоконнике и курила.
Штаубе, милый! Сереженька! - Она спрыгнула, подошла и поцеловала обоих.
С приездом, Ольга Владимировна, с приездом, - засмеялся старик.
Олька! - улыбался мальчик.
Нарушители! - засмеялась она.
Друзья, это печально, а не смешно, - Ребров склонился над раскрытым чемоданом. - Если все пойдет с издержками, я вообще плюну. У меня в Киеве любимый человек.
Витя, не сгущай, - Пестрецова бросила папиросу на пол и придавила сапожком. - Еще вагон времени.
Да и куда... куда, собственно, спешить-то? Что, поезд уходит? - Штаубе заглянул в чемодан. - Ой-ей-ей... Виктор Валентинович, вы время даром не теряли.
Чемодан был полон различных инструментов, металлических деталей, брусков и пластин.
Не терял. - Ребров нашел широкую стамеску с плексигласовой ручкой, молоток и выложил их на пол. - Баллончики у вас?
У меня, - Штаубе полез в карман.
Держите при себе. - Ребров закрыл чемодан, выпрямился. - Так. Прошу внимания.
Он подошел к окну, поплотнее задернул грязные шторы, повернулся и заговорил, потирая руки:
Итак. То, что будет сегодня, к вашему сведению, не Дело № 1, а Преддело № 1. Соответственно, наклонный ряд, капиталистическое и яросвет будут сокращены. Начнем.
Все стали раздеваться, складывая одежду на пол.
Пестрецова помогла старику снять протез с культи. Голый Ребров подошел к большому кубу, стоящему в углу комнаты. Куб был сбит из толстой фанеры, к одной из его сторон были приделаны четыре кожаные петли. Ребров присел, продел руки в петли и встал, держа куб на спине.
Ольга и Сережа подвели к кубу Штаубе.
Крышку, - командовал Ребров.
Ольга сняла с куба верхнюю грань и положила на пол. Затем они с Сережей помогли голому Штаубе забраться в куб.
Есть... - пробормотал Штаубе из куба.
Ольга поместила грань на прежнее место, закрывая Штаубе. Сережа подал ей молоток и четыре гвоздя. Она вставила гвозди в четыре отверстия по углам верхней грани и прибила грань к кубу.
Как? - глухо донеслось из куба.
Держу, держу, - ответил Ребров, расставляя ноги пошире.
Ольга легла между его ногами лицом вниз. Сережа лег своей спиной на спину Ольги.
Все! - громко произнес Ребров.
Штаубе откашлялся и заговорил:
54, 18, 76, 92, 31, 72, 72, 82, 35, 41, 87, 55, 81, 44, 49, 38, 55, 55, 31, 84, 46, 54, 21, 13, 78, 19, 63, 20, 76, 42, 71, 39, 86, 24, 91, 23, 17, 11, 73, 82, 18, 68, 93, 44, 72, 13, 22, 58, 72, 91, 83, 24, 66, 71, 62, 82, 12, 74, 48, 55, 81, 24, 83, 77, 62, 72, 29, 33, 71, 99, 26, 83, 32, 94, 57, 44, 64, 21, 78, 42, 98, 53, 55, 72, 21, 15, 76, 18, 18, 44, 69, 72, 98, 20.
Затем заговорила Ольга:
Сте, ипу, аро, сте, чае, пои, сте, гое, ува, сте, ого, ано, сте, зае, хеу, сте, ача, лое, сте, эжэ, ити, сте, аву, убо, сте, ене, оло, сте, одо, аве, сте, иже, аса, сте, уко, лао, сте, шуя, саи, сте, нае, яко, сте, диа, сае, сте, ира, сио, сте, ява, юко, сте, зао, мио, сте, хуо, дыа, сте.
После Ольги заговорил Сережа:
Синий, синий, желтый, оранжевый, синий, красный, зеленый, зеленый, желтый, фиолетовый, голубой, красный, зеленый, фиолетовый, желтый, голубой, синий, зеленый, оранжевый, оранжевый, красный, фиолетовый, желтый, желтый, синий, голубой, красный, зеленый, синий, фиолетовый, голубой, оранжевый, оранжевый.
Потом запел Ребров:
Соль, до, фа, фа, соль, ми, ре, ля, фа, фа, си, соль, до, до, си, соль, фа, ре, ля, ля, ми, си, до, ре, ре, фа, соль, си, ля, до, ля, фа, соль, ми, фа, ля, ля, до, ре, ми, си, фа, ля, соль, ре, ми, ля, до, ми, ля, ля, соль, до, фа, ля, си, ре, до, си, си, ре, фа, ми, си, до, соль, соль, до, фа, ля, си, ми, ми, ля, ре, до, ми, си, си, до, фа, ля, соль, ми, си, ре.
Сережа встал. Встала и Ольга. Они помогли Реброву опустить куб на пол. Ребров вынул руки из петель, взял стамеску и вскрыл прибитую грань.
Оп! - Штаубе вылез из куба, запрыгал на одной ноге к протезу. Ольга помогла ему надеть протез и подняла с пола его длинные зеленые трусы.
А вот это я сам, Ольга Владимировна. Спасибо, - он забрал у нее трусы, прислонился к стене и проворно надел их.
Все прекрасно, - Ребров вынул из фанеры гвозди, пристроил грань на место. - Все, все хорошо, только, Сережа, произноси отчетливей, не глотай окончания.
Ага. - Сережа, сидя на полу, натягивал носки.
И резкость, резкость, - заметил Штаубе. - Резко и ясно. Раз! Раз! Раз!
Когда все оделись, Ребров посмотрел на часы:
Так. Двинулись.
Они вышли в коридор, стали надевать верхнюю одежду.
Генрих Иваныч, баллончики, - сказал Ребров.
Штаубе достал из кармана три баллончика.
Один у вас, два - нам с Ольгой Владимировной, - Ребров взял баллончик, Ольга взяла другой.
А тряпки? - спросил Сережа, надевая шапку.
Да! Тряпки! - спохватился Ребров. - В ванной.
Он зашел в ванную и вернулся с четырьмя мокрыми шерстяными тряпками:
Вот. Всем. И будьте внимательны, пожалуйста. В левой руке, значит, сейчас - в левый карман. Теперь... поддержка?
Ольга похлопала себя по внутреннему карману куртки:
Штаубе сунул руку в карман пальто:
Отлично, - Ребров надел кожаную фуражку. - Ключ?
Сережа передал ему брелок с ключом.
Все? - Ребров посмотрел в глаза Ольги.
Она кивнула.
Ну, двинулись, - он открыл дверь.
С Богом, - шепнул Штаубе, вышел и стал спускаться по лестнице. Остальные спустились следом.
Во дворе Ребров с Ольгой направились к серым «Жигулям», старик с мальчиком прошли через арку на улицу. Ребров завел машину, развернулся, поехал. Штаубе и Сережа подсели у разбитого газетного киоска.
Сережа, ты сколько времени в розыске? - спросил Ребров, выруливая на Садовое кольцо.
Три месяца и шесть дней, - ответил мальчик.
Три месяца! - покачал головой Штаубе. - Как все быстро...
Значит, тебя возле твоего дома каждая собака узнает, - проговорил Ребров.
Узнает, - кивнул Сережа, - старухи на лавочке точно узнают.
Там лавка у подъезда?
Ничего, я его проведу, - Ольга чиркнула спичкой, закуривая.
А может - ночью? - предложил Штаубе.
Безумие. Весь дом спит, все слышно...
Да проведу я его, никто не узнает!
Проехали Зубовскую площадь и перед Крымским мостом свернули на Фрунзенскую набережную.
Тогда вот как, - заговорил Ребров. - Сначала я пройду, потом Генрих Иваныч. А потом уже вы с Сережей.
Как скажете, - вздохнул Штаубе.
Сережа, теперь говори мне...
Щас, вот «Гастроном», а следующий наш. Мой.
Ага. Тогда мы здесь встанем.
Ребров свернул и припарковал машину на обочине, за бежевой «Волгой».
Еще раз, - он повернулся. - Помните про тряпки. И поддержка, в случае. Ольга Владимировна, здесь я на вас надеюсь.
Не беспокойся, - улыбнулась Ольга.
Третий подъезд. Там направо, - подсказал Сережа.
Ребров вылез из машины и пошел во двор дома. Возле третьего подъезда на лавочке сидели две старухи. Он поднял воротник пальто и быстро вошел в подъезд. Поднялся по лестнице на третий этаж и встал возле мусоропровода.
Минуты через четыре приехал на лифте Штаубе. Почти сразу же следом появились Ольга с Сережей.
Так, - Ребров мотнул головой, и они подошли к добротно обитой двери. Он вынул ключ, но потом опять убрал в карман: - Нет. Звони сам.
По второму? - спросил Сережа.
Ольга расстегнула куртку. Сережа позвонил.
Мама, это я, - ответил Сережа.
Дверь открыли, и Сережа сразу же бросился на шею стоявшей на пороге невысокой блондинке:
Мамочка! Мама!
Сергей! Сергей! Сергей! - закричала женщина, сжимая Сережу. - Коля! Коля! Сергей!
К ним подбежал худощавый мужчина, схватил голову Сережи, прижался.
Сергей! Сергей! Сергей! - вскрикивала женщина.
Мамочка, папа, подождите... я не один...
Сергей! Сергей! Я не могу! Я не могу! - тряслась женщина.
Мужчина беззвучно плакал.
Мамочка... я здесь, я живой, подожди, мамочка.
Лидия Петровна, не волнуйтесь, все позади, - произнес Ребров, улыбаясь.
Да. Слава Богу, - усмехнулся Штаубе.
Не могу! Сергей! - дрожала женщина, прижавшись к Сереже.
Мама... подожди, это... это Виктор Валентинович и Ольга Владимировна из уголовного розыска... мама...
Мужчина первым пришел в себя:
Проходите, проходите... пожалуйста... - Он вытер лицо ладонями, потянул женщину за руку. - Лида, успокойся, все, все хорошо.
Мама... ну, мамочка, подожди...
Да, да, проходите... Сережа, ой, Сергей, - обняв Сережу, она отошла с ним в сторону.
Ребров, Ольга и Штаубе вошли. Мужчина закрыл за ними дверь.
А я ведь только вчера звонил вашему... ну, этому, Федченко, - с трудом проговорил мужчина. - А он говорит... это... ищем, ищем.
Вчера - не сегодня, - улыбался Ребров.
Ой, у меня сердце разорвется! - Женщина взялась руками за виски и покачала головой. - Сергей, Сергей... что же ты с нами сделал.
Ну, не он один виноват, - проговорил Ребров.
Ой... ну вы проходите, что же тут, - не отпуская Сережу, женщина вошла в комнату.
Мы на минуту, - сказал Ребров, и все прошли в комнату.
Где же ты был, где же ты мог быть, - качала головой женщина.
Да. Наделал дел... - Мужчина опустился на диван, но, спохватившись, встал. - Товарищи, вы садитесь, чего ж...
Спасибо, нам рассиживаться некогда, - Ребров сунул руки в карманы пальто. - Сережа, скажи теперь. Про наш сюрприз.
Да, мама, у нас сюрприз, - Сережа освободился от объятий. - Вот, мама, и ты, пап, сядьте сюда, на диван и послушайте. Только это, не перебивайте.
Не перебивать будет трудно, - усмехнулась Ольга.
Попробуем, - со вздохом женщина села на диван. Мужчина сел рядом.
Теперь тряпки, - спокойно произнес Ребров.
Все четверо вынули мокрые тряпки и приложили их к лицу, прикрывая нос и рот. Выбросив вперед правую руку с баллончиком, Ребров прыснул аэрозолем в лицо мужчине и женщине. Беспомощно вскрикнув, они схватились за лица и сползли с дивана на пол.
По телам мужчины и женщины прошла судорога, и они застыли в неудобных позах.
Не отнимая тряпки от лица, Ребров сунул баллончик в карман:
Оля. Только без суеты.
Прижимая левой рукой тряпку к лицу, Ольга вынула из внутреннего кармана куртки спортивный пистолет со сложной рукояткой и с цилиндром глушителя на конце ствола, подошла к лежащим.
В упор не надо, - подсказал Штаубе.
Умело и быстро прицелившись, Ольга выстрелила в головы лежащих.
И еще, - скомандовал Ребров.
Снова раздались два глухих хлопка, головы лежащих дернулись, пустые гильзы покатились по полу.
И еще полминуты, - Ребров подождал немного, потом сунул тряпку в карман. - Можно.
Все убрали тряпки. Ольга спрятала пистолет, Сережа подобрал четыре гильзы.
Ребров распахнул левую полу своего пальто, из разных карманчиков вынул большие хирургические ножницы, пробирку с пробкой, флакончик с прозрачной жидкостью.
Сначала мать, - Ребров передал пробирку и флакончик Штаубе. Ольга с Сережей перевернули труп женщины на спину. Лицо ее залила кровь, глазное яблоко было вырвано из глазницы.
Генрих Иваныч, - пробормотал Ребров, склоняясь с ножницами над лицом трупа.
Штаубе откупорил и поднес пробирку. Ребров быстро отстриг губы и опустил их в пробирку. Штаубе залил губы прозрачной жидкостью из флакончика и закупорил пробирку.
Так, - Ребров вытер испачканную в крови руку о кофту трупа, - теперь отец.
Ольга с Сережей перевернули труп мужчины, расстегнули и спустили с него штаны, спустили трусы.
Сережа! - Ребров оттянул крайнюю плоть на члене, отстриг головку и быстро вложил в рот наклонившемуся Сереже. Сережа стал сосать головку, осторожно перекатывая ее во рту. Ольга вытерла ему губы платком.
Шкатулка в спальне? - Ребров взял у Ольги платок и вытер им ножницы.
Сережа кивнул и махнул рукой. Ольга вышла. Ребров убрал к себе в пальто пробирку с губами, флакончик и ножницы. Ольга вернулась с небольшой арабской шкатулкой в руках. Ребров достал из кармана черную нейлоновую сумку, Ольга положила в нее шкатулку.
Так, - Ребров огляделся. - Все?
Единственно, вот водички попить, - Штаубе захромал на кухню.
Ты взять ничего не хочешь? - спросил Ребров Сережу.
Сережа сосредоточенно сосал головку.
Сережа? - Ольга тронула мальчика за плечо.
Он посмотрел на нее и отрицательно качнул головой. Но потом вдруг вышел из комнаты и быстро вернулся с плюшевым крокодилом. Крокодил был старый, прорванный в нескольких местах.
А-а-а. Ну-ну, - Ребров кивнул, взглянул на трупы. - Ну, двинулись.
Они вышли из комнаты в прихожую.
Генрих Иваныч, вы скоро? - Ребров подошел к двери.
Иду, иду. - Штаубе вышел из кухни.
Значит, теперь мы с вами, а потом они с Сережей.
Ребров открыл дверь и вышел. Вслед за ним вышел Штаубе.
Ольга закрыла за ними дверь, привалилась к ней спиной. Сережа разглядывал крокодила, посасывая головку.
Соскучился? - спросила Ольга.
Он кивнул.
Давно он у тебя?
Сережа показал три пальца.
Три года? А чего такой ободранный?
Ба...бушкин, - с трудом проговорил он.
Ольга приложила ухо к двери, послушала. Сережа тоже прижался к двери.
Все. Пошли, - Ольга открыла дверь.
Они вышли, Ольга осторожно прикрыла дверь, взяла Сережу за руку и повела вниз по лестнице.
Внизу так же, - пробормотала она.
Когда стали выходить из подъезда, Сережа обхватил Ольгу руками и зарычал.
Витя, прекрати! - громко произнесла она.
Сережа прижал лицо к ее куртке и зарычал сильнее.
Витя, Витя! - засмеялась она. - Ты не маленький, прекрати.
Они вышли из подъезда, миновали сидящих на лавочке старух. Шел крупный снег.
Обнявшись, они прошли двор и повернули к машине. Завидя их, Ребров завел мотор и стал разворачиваться.
Ну, не подавился? - Ольга открыла заднюю дверцу «Жигулей».
Ум-ум, - ответил Сережа, забираясь с крокодилом в машину.
Ольга не торопясь оглянулась и села следом.
Благополучно? - Ребров переключил скорость.
Благополучно, - Ольга с облегчением откинула голову на сиденье.
Свет погасили?
Напрасно. - Ребров стал выруливать на набережную.
Ты не сказал. - Ольга достала портсигар, открыла.
Ольга Владимировна, - заворчал Штаубе, - вы же не дитя.
Я не дитя. - Ольга продула папиросу, прикурила.
Дайте-ка и мне. - Ребров поднял руку, Ольга вложила в нее папиросу.
Ребров закурил, резко выпустил дым:
Плоховато. Но... ладно, что теперь.
Я могу вернуться, - усмехнулась Ольга.
Да уж! - хмыкнул Штаубе. - Вернуться. Дорого яичко ко Христову дню, Ольга Владимировна.
Сережа, когда дядя обещал приехать? - спросил Ребров.
Мальчик выплюнул головку в руку:
На Новый год.
Ребров кивнул. Выехали на Садовое кольцо.
Ольга достала пистолет, вынула обойму, вставила в нее недостающие четыре патрона. Сережа разглядывал головку.
Ты давай соси по-честному. - Ольга оттянула затвор.
Мальчик взял головку в рот и стал вертеть в руках крокодила.
Был я сегодня на Черемушкинском рынке, - проговорил Ребров.
Дорого? - спросил Штаубе.
Мясо от пятнадцати до двадцати пяти. Огурцы соленые - семь. Груши - десять.
Да, - Штаубе покачал головой. - Какой грабеж.
А ты шиповника купил? - Ольга убрала пистолет.
Ольга Владимировна, как вы съездили в Петербург? - спросил Штаубе.
Серьезно? Что-то стряслось?
Да, это печальная история, - Ребров поморщился от попавшего в глаза дыма. - История человеческой черствости, равнодушия, убожества.
Я приехала утром, навестила Бориса, взяла рубцовые. Потом съездила к Илье Анатольичу, передала вар и четвертый. Он живет за городом, пока добралась, пока что. Устала как черт. Ну и как всегда, к бабуле. Думаю - залезу сейчас в ванну, выпью коньяку...
О да, вы любите! - засмеялся Штаубе.
Приехала, звоню в дверь. Никого. Звонила час. Потом зашла к соседям. Живут лет пятнадцать рядом, знают бабулю только в лицо. Говорят, давно не видали. Звоню ее единственной подруге, Марии Марковне. Она уже месяц не может дозвониться. Говорит, звоню, звоню, никто не подходит. Ей тоже восемьдесят два, но она совсем не выходит. Бабуля-то все сама делала и в магазины ходит. Вот. Пошла к домоуправу. Вызвали участкового, слесаря, взяли понятых. Взломали дверь. Ну и сразу по запаху стало ясно. Входим. И...
Ольга Владимировна, не надо, прошу вас, - Штаубе закрыл уши ладонями.
Ну и... я первый раз в жизни видела червивого человека. Червивую бабушку. Там просто была кожа, а внутри черви. Они шевелятся, и кажется, что она хочет ползти. Приехали из морга и попросили клеенку, чтобы бабулю поднять. И когда понесли...
Ольга Владимировна! Ольга Владимировна! Я прошу вас! Я очень прошу вас! - закричал Штаубе, зажимая уши. - Если я прошу, если я очень прошу! Зачем же вы! Ну!
Извините, Штаубе, милый. Я просто устала, - Ольга откинулась на сиденье. - Я прямо с поминок - сюда.
Ужасно, ужасно, - тряс головой Штаубе. - И ведь никто не придет, не позвонит. Какие все-таки люди стали. Боже мой!
Да, - вздохнул Ребров. - И мы еще удивляемся черствости нашей молодежи. Хотя виноваты в этом сами.
Да нет, я же помню военные, послевоенные годы! - Штаубе снял шапку, пригладил седые волосы. - Как тяжело было, как плохо жили! Но я совсем не помню людей равнодушных! Было все: хамство, скупость, дикость, но только не равнодушие! Только не равнодушие!
Сережа выплюнул головку в ладонь:
А я не равнодушный?
С тобой все в порядке, - улыбнулся Ребров.
Ты у нас просто Тимур! - засмеялась Ольга. - Правда, без команды. Что, устал сосать? Дай мне тогда...
Наклонившись, она губами взяла головку с Сережиной ладони, покачала головой.
Хорошо? - спросил Сережа.
Ольга кивнула.
Свернули на проспект Мира. Снег падал крупными хлопьями. Проехали по Ярославскому шоссе, свернули направо. Дорога пошла сквозь заснеженный лес и километра через три уперлась в ворота трехметрового зеленого забора.
Ребров посигналил.
Уф-ф... неужели доехали, - закряхтел Штаубе, надевая шапку.
Виктор Валентиныч, а почему здесь всегда снега больше, чем в Москве? - спросил Сережа.
Северное направление. Холоднее.
Рядом с воротами отворилась дверь, вышел милиционер в наброшенном на плечи тулупе.
Ребров опустил стекло:
Добрый вечер! Вас тут снегом не завалило?
Приветствую. - Милиционер подошел, посмотрел, повернулся и скрылся за дверью.
Ворота медленно открылись. Машина стала въезжать.
У вас закурить не найдется? - Милиционер стоял возле маленького здания вахты.
Найдется, - Ребров притормозил. - Ниночка, где наши папиросы?
Ольга передала портсигар. Ребров раскрыл, протянул милиционеру.
Спасибо. Игорь Иванович не приедет?
Нет. До Нового года вряд ли.
Сережа, закрой.
Въехали. Сережа вылез, закрыл и юркнул в машину. Метров через сто среди сосен показался большой двухэтажный дом. Машина подъехала к нему и остановилась. Стали вылезать.
Ой, - Штаубе, морщась, захромал к дому. - Виктор Валентинович, надо бы дорожку расчистить...
Ребров взял из багажника две сумки:
Завтра, все завтра.
Сережа слепил снежок, бросил в спину Ольги. Не оборачиваясь, Ольга погрозила ему кулаком.
Вошли в дом. Штаубе зажег свет. Разделись в просторной прихожей, повесили одежду на огромные лосиные рога. Ребров протянул Ольге коричневую сумку:
Это сразу на кухню. И готовить.
Да, Ольга Владимировна, готовить, готовить, умоляю, готовить. - Штаубе осторожно снимал калоши. - Я обедал в двенадцать, в страшной забегаловке. Ужасно голоден.
А я вообще не обедал. - Сережа ловко кинул шапку на рога. - Виктор Валентиныч, а можно Воронцова посмотреть?
Подожди, все пойдем.
Ну, можно, я!
Нет, нет. Ты мне сейчас нужен. Идем в кабинет. - С черной сумкой в руке Ребров стал подниматься по широкой, устланной ковром лестнице на второй этаж.
Ну... - Хлопая крокодилом себя по ноге, мальчик нехотя последовал за ним.
Ольга на кухне загремела посудой. Штаубе скрылся в уборной.
Ребров вошел в кабинет, зажег настольную лампу, вынул из сумки шкатулку, положил на стол. Достал пробирку с губами, посмотрел на свет:
Сережа рассматривал корешки многочисленных книг:
Виктор Валентиныч, а что такое термодинамика?
Термодинамика? - Ребров поставил пробирку в кассету, рядом с другими пробирками. - Честно говоря, точно не знаю... подойди, пожалуйста, сюда.
Ребров открыл шкатулку. Сережа подошел. В шкатулке лежали документы, деньги, пачка писем, ювелирные изделия в коробочках, театральный бинокль, отделанный перламутром.
Анищенко Николай Николаевич, - Ребров раскрыл паспорт. - Повтори про усы еще раз.
Усы были, когда переехали с Моховой, потом два раза была борода, а усов не было. И последний раз, последний, то есть, год были только усы.
Так. - Ребров раскрыл тетрадь, сделал в ней пометки, потом взял ножницы и стал вырезать фотографии из паспорта. - И еще раз о шахматах.
Ну, - Сережа положил крокодила на край стола и загнул ему хвост, - каждое воскресенье, в Парке культуры, в шахматном павильоне. Там были Сергей Иваныч, потом Костя, потом такой Толик.
С суставом?
Ребров убрал фотографии в конверт.
А можно, я бинокль возьму? - спросил Сережа.
Ребров покачал головой:
Это невозможно... На сегодня хватит. Завтра поговорим о толстяке и о ребрах. Иди посмотри мультфильмы.
Мальчик поднял крокодила над головой и вышел.
Олег толкнул дверь ногой и вошел в булочную. Народу было немного. Он прошел к лоткам, взял два белых по двадцать и половину черного. Встал в очередь за женщиной. Вскоре очередь подошла.
Пятьдесят, - сказала седая кассирша.
Олег дал рубль.
Ваши пятьдесят, - дала сдачу кассирша.
Прижав хлеб к груди, он двинулся к выходу. Выйдя на улицу, достал полиэтиленовый пакет, стал совать в него хлеб. Батон выскользнул из рук и упал в лужу.
Черт… - Олег наклонился и поднял батон. Он был грязный и мокрый. Олег подошел к урне и бросил в нее батон.
Затем взял пакет поудобней и двинулся к своему дому.
Эй, парень, погоди, - окликнули сзади.
Олег оглянулся. К нему подошел, опираясь на палку, высокий старик. На нем было серое поношенное пальто и армейская шапка-ушанка. В левой руке старик держал авоську с черным батоном. Лицо старика было худым и спокойным.
Погоди, - повторил старик, - тебя как зовут?
Меня? Олег, - ответил Олег.
А меня Генрих Иваныч. Скажи, Олег, ты сильно торопишься?
Да нет, не очень.
Старик кивнул головой:
Ну и ладно. Ты наверняка вон в той башне живешь. Угадал?
Угадали, - усмехнулся Олег.
Они пошли рядом.
Знаешь, Олег, больше всего на свете не терплю я, когда морали читают. Никогда этих людей не уважал. Помню, до войны еще отдали меня летом в пионерский лагерь. И попался нам вожатый, эдакий моралист. Все учил нас, пацанов, какими нам надо быть. Ну и, короче, сбежал я из того лагеря…
Некоторое время старик шел молча, скрипя протезом и глядя под ноги. Потом снова заговорил:
Когда война началась, мне четырнадцать исполнилось.
Тебе сколько лет?
Тринадцать, - ответил Олег.
Тринадцать, - повторил старик. - Ты про Ленинградскую блокаду слышал?
Ну, слышал…
Слышал, - повторил старик, вздохнул и продолжил. - Мы тогда с бабушкой, да с младшей сестренкой, Верочкой, остались. Отца в первый день, двадцать второго июня, под Брестом. Старшего брата - под Харьковом. А маму на Васильевском, в бомбоубежище завалило. И остались мы - стар, да мал. Бабуля в больницу пристроилась, Верочку на дежурства с собой брала, а я на завод пошел. Научили меня, Олег, недетской работе - снаряды для «Катюш» собирать. И за два с половиной года собрал я их столько, что хватило бы на фашистскую дивизию. Вот. Если бы не начальнички наши вшивые, во главе со Ждановым, город бы мог нормально продержаться. Но они тогда жопами думали, эти сволочи, и всех нас подставили: о продовольствии не позаботились, не смогли сохранить. Немцы Бадаевские склады сразу разбомбили, горели они, а мы, пацаны, смеялись. Не понимали, что нас ждет. Сгорело все: мука, масло, сахар. Потом, зимой, туда бабы ходили, землю отковыривали, варили, процеживали. Говорят, получался сладкий отвар. От сахара. Ну, и в общем, пайка хлеба работающему 200 грамм, иждивенцу - 125. Как Ладога замерзла, Верочку - на материк, по «дороге жизни». Сам ее в грузовик подсаживал. Бабуля крестилась, плакала: хоть она выживет. А потом уже, когда блокаду сняли, узнал - не доехала Верочка. Немцы налетели, шесть грузовиков с детьми и ранеными - под лед…
Старик остановился, достал скомканный платок.
«…Добежав до конца, Ольга распахнула торцевую дверь и оказалась в большом зале для заседаний. Стекла в широких окнах были выбиты, сугробы покрывали ряды гнилых кресел. Увязая по колени в снегу, Ольга пробежала по проходу, вспрыгнула на подиум, перемахнула через провалившийся стол с клочьями истлевшего красного сукна и встала на массивный мраморный бюст Ленина. Скоба вбежал, дал очередь веером, Ольга дважды выстрелила из-за ленинского плеча: первая пуля срикошетила от пулемета Скобы, вторая попала ему в правое бедро. Он закричал, бросился в сугроб, привстал и открыл огонь. Мраморные осколки полетели от бюста, Ольга бросилась на пол, проползла до развалившегося рояля, стала целиться, но прямо перед ней из гнилых обломков вывалилась огромная, бугристая крыса с коротким, необыкновенно толстым хвостом, тяжело прыгнула с подиума и не торопясь побежала. Ольга вскочила и, визжа, стреляла в крысу до тех пор, пока пистолет не щелкнул, выбросив ствол…»
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Сердца четырех" Сорокин Владимир Георгиевич бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.