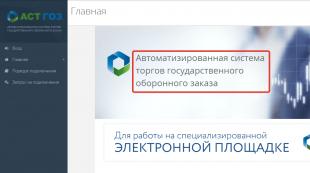Журавлиный крик на русском читать в сокращении. «Журавлиный крик. Подготовка к бою
Осень 1941-го. Комбат поставил отряду из шестерых человек невыполнимую задачу: на сутки задержать немецкие войска у безымянного железнодорожного переезда. Командование отрядом комбат поручил старшине Карпенко. Как только коротенькая колонна батальона скрылась из виду, старшина распределил позиции между бойцами. Фланговая позиция досталась Пшеничному, за ним начал рыть укрытие Фишер, следом расположились Овсеев, Свист и Глечик. К вечеру позиции оборудовали все, кроме Фишера. Старшина вспомнил, что у них до сих пор нет дозорного,
И решил, что самая подходящая кандидатура на этот пост – ученый-неумека.
Пшеничный вырыл свой окоп еще засветло. Уединившись, он решил перекусить и достал сало, спрятанное от товарищей. Его обед перервали далекие пулеметные очереди. Бойцы встревожились, особенно когда Овсеев сказал, что их окружают, и весь отряд состоит из смертников. Старшина быстро прекратил этот разговор, но Пшеничный уже принял решение сдаться в плен.
Жизнь Ивана Пшеничного сложилась “нескладно и горько”. Отец его был зажиточным крестьянином, кулаком. Суровый и жесткий, он “безжалостно школил сына в несложной земледельческой
Науке”. Ненавидеть отца Пшеничный начал, подружившись с батраком, дальним родственником по материнской линии. Эта дружба сохранилась и спустя несколько лет, когда бывший батрак, отслужив в армии, стал “заводилой всех молодежных дел в деревне”. Однажды Иван посетил репетицию “безбожницкой” пьесы, которую ставила деревенская молодежь. Пшеничному-отцу это не понравилось, и он пригрозил выгнать безбожника из дому. Порвать с семьей Иван не смог. Через пару лет Пшеничных раскулачили и отправили в Сибирь. Сам Иван избежал этого – он учился в семилетке и жил у дяди. Однако прошлое так и не отпустило Пшеничного. Работал он старательно, но куда бы ни занесла его судьба, везде всплывало его “непролетарское” происхождение. Постепенно Иван ожесточился, усвоил житейское правило: “только сам по себе, сам для себя, вопреки всему”. Наверное, он один злорадствовал, когда началась война.
Вечером пошел дождь. Старшина решил соединить выкопанные укрытия рвом. Траншея была готова только к полуночи. Свист заткнул окно и растопил печку в уцелевшей станционной сторожке. Вскоре в ней укрылись и остальные бойцы. Собрав “с миру по нитке”, Свист соорудил ужин, умудрившись стащить у Пшеничного недоеденный кусок сала. Старшина знал, что Свист когда-то сидел в колонии, и прямо спросил об этом.
Разморенный сытной едой, Свист рассказал свою историю. Родился Витька Свист в Саратове. Его мать работала на подшипниковом заводе, туда же пошел работать и подросший Витька. Однако однообразная работа не пришлась Свисту по душе. От безысходности парень начал выпивать. Так и познакомился с человеком, который предложил ему новую работу – продавца в хлебном магазине. Через Витьку этот человек начал сбывать “левый” хлеб. У Витьки появились лишние деньги, а потом он влюбился. Девушка Свиста “принадлежала” главарю шайки. Он велел Витьке обходить ее стороной. Завязалась драка. Попав в милицию, Свист услышал, как главарь называется чужим именем, разозлился и сдал следователю всю шайку. В Сибири, на лесоповале, Витька пробыл два года. После амнистии подался на Дальний Восток и стал матросом на рыболовном судне. Когда началась война, Витька не захотел отсиживаться в тылу. Помог начальник НКВД – определил Свиста в стрелковую дивизию. Невиновным себя Свист не считал, хотел только, чтобы его прошлое не вспоминали.
Овсеева старшина назначил караульным. Стоя под холодным дождем, он думал о завтрашнем дне. Овсеев не хотел погибать. Он считал себя человеком исключительно талантливым. “В роте Овсеев жил сам по себе”. Он считал себя намного умнее и интеллигентнее прочих. Одних он презирал, на других не обращал внимания, но и на самого Овсеева никто не равнялся, да и взыскивали с него так же, как и с других. Это казалось ему крайне несправедливым.
Свою исключительность Алик Овсеев осознал еще в школе, чему немало поспособствовала его матушка. Отец Алика, военврач третьего ранга, воспитанием сына практически не занимался, “зато мать, уже немолодая и очень добрая женщина”, обожала своего гениального сына. Перепробовав все виды искусства, от живописи до музыки, Алик понял: “там нужны фанатичная самоотверженность, упорство и каторжный труд”. Это Овсееву не подходило – он хотел достичь большего малыми средствами. Спортивной карьеры у Алика тоже не получилось. Из футбольной команды его исключили за грубость. Тогда Овсеев избрал карьеру военного и стал курсантом училища. Он мечтал о подвигах и славе, и был сильно разочарован. Командиры упорно не замечали его исключительности, а остальные курсанты его невзлюбили. Вскоре после начала войны Овсеев понял, что война – это не подвиги, а кровь, грязь и смерть. Он решил, что “это не для него”, и с тех пор стремился только к одному – выжить. Сегодня удача изменила ему окончательно. Выхода из этой ловушки Овсеев не находил.
После Овсеева дежурить выпало Глечику. Это был самый молодой из шести бойцов. За время войны Глечик “порядком огрубел душой и перестал замечать мелкие невзгоды жизни”. В его сознании жила “только одна всепоглощающая боль”. Василий Глечик родился в небольшом белорусском поселке и рос “робким и молчаливым мальчишкой”. Отец Васи работал обжигальщиком на местном кирпичном заводе. Его мать была спокойной, веселой и жизнерадостной. “Когда мать обижалась, Василек не мог чувствовать себя счастливым”. Счастливая жизнь Глечика кончилась, когда погиб отец – Глечика-старшего убило током. “Жить стало трудно, томительно-скучно и одиноко”, ведь матери пришлось одной поднимать двоих детей – Василька и его сестричку Насточку. После окончания семилетки мать отправила Василька учиться дальше, а сама устроилась на кирпичный завод формировать черепицу. Постепенно она успокоилась, а потом и заметно повеселела. В один прекрасный день мать привела домой немолодого мужчину, заводского бухгалтера, и сказала, что он станет их отцом. Глечик сбежал из дома и поступил в Витебскую школу ФЗО. Мать его отыскала, умоляла вернуться, но Вася на письма не отвечал. Когда началась война, отчим ушел на фронт, мать и сестра снова остались одни, и Вася засомневался. Пока он размышлял, немцы подошли к Витебску, и Глечику пришлось спасаться. Добравшись до Смоленска, он пошел в армию добровольцем. Теперь его терзало только одно горе: он обидел мать, оставил ее одну.
В станционной сторожке тем временем все спали. Уснул и Григорий Карпенко. Во сне он видел своего отца и трех братьев. Отец старшины был крестьянином. Делить на три части свой небольшой земельный надел он не захотел, отдал всю усадьбу старшему сыну. Карпенко был самым младшим. После десятилетней службы в армии он попал на Финскую войну, где получил медаль “За боевые заслуги”. После увольнения в запас Карпенко “назначили заместителем директора льнозавода”, и Карпенко “женился на Кате, молоденькой учительнице местной начальной школы”. Вместе с директором, “одноруким красным партизаном”, они сделали свой завод лучшим в районе. Когда началась война, жена Карпенко ждала ребенка. На фронте Григорию везло, он привык чувствовать свою неуязвимость. Везение изменило Карпенко только сегодня, но отступать не собирался. У коренастого, крепко сбитого старшины было одно твердое жизненное правило: “все сомнительное, неопределенное прятать в себе, а напоказ выставлять только уверенность и непреклонную твердость воли”.
Начало светать. “Впередсмотрящий” Фишер уже давно выкопал себе убежище и теперь размышлял о старшине. Он вызывал у Фишера “сложное и противоречивое чувство”. Ученого угнетала его требовательность, черствость и злые окрики. Но стоило тому стать не старшиной, а просто товарищем, Фишер готов был исполнять любые его приказы. Фишер не мог понять, как это он, молодой и способный ученый, втайне “старался угодить какому-то малограмотному солдафону”. Борис Фишер считал себя не слишком молодым – “недавно разменял четвертый десяток”.
Родился он в Ленинграде. К искусству Бориса приобщил отец. Взявшись, наконец, за кисть, Фишер понял, что великого художника из него не получится, но искусство из его жизни не ушло. В 25 лет Борис стал кандидатом наук в области искусствоведения. В армии он стал “белой вороной”. Фишер чувствовал, как “грубая фронтовая жизнь ежедневно и неумолимо стирала в его душе великую ценность искусства, которое все больше уступало жестоким законам борьбы”. Фишер стал сомневаться: не ошибся ли он, отдав искусству лучшие годы своей жизни.
После Овсеева на часах стоял Пшеничный. Выйдя из сторожки, он почувствовал, что закончился очередной этап его жизни. Сейчас самым разумным, по его мнению, “будет сдаться немцам – на их милость и власть”. Он рассчитывал, что немцы назначат его на какую-нибудь выгодную должность. С этими мыслями Пшеничный дошел до ближайшей деревни. Из-за ближайшей хаты выскочили немцы. Напрасно Пшеничный втолковывал им, что он “плен”. Немцы велели ему идти по дороге, а потом хладнокровно расстреляли.
Эта пулеметная очередь разбудила Фишера. Он испуганно вскочил в окопе и услышал далекий треск мотоциклетных моторов. Фишер почувствовал, что “наступает минута, которая покажет наконец, чего стоила его жизнь”. Когда из тумана показались первые мотоциклы, Фишер “понял, что попасть шансов у него мало”. Фишер расстрелял целую обойму, не принеся врагам никакого ущерба. Наконец он успокоился, тщательно прицелился и сумел тяжело ранит немецкого офицера, сидевшего в коляске мотоцикла. Это был единственный подвиг ученого. Немцы подошли к окопу и расстреляли его в упор.
Звуки выстрелов подняли остальных бойцов. Только теперь старшина обнаружил, что исчез Пшеничный, а через некоторое время понял, что лишился еще одного бойца. Первую волну мотоциклов и транспортеров они отбили. Весь маленький отряд охватило воодушевление. Особенно похвалялся Овсеев, хотя большую часть боя просидел, съежившись, на дне окопа. Он уже понял, что Пшеничный сбежал, и теперь жалел, что не последовал его примеру. Свист по-прежнему не унывал. Он сделал вылазку к подбитому транспортеру, где раздобыл новенький пулемет и патроны к нему. Расщедрившись, Свист подарил старшине золотые часы, вытащенные из кармана убитого немца, а когда Карпенко разбил их о стену сторожки, только почесал затылок.
Принесенный пулемет старшина вручил Овсееву, который не слишком обрадовался. Овсеев прекрасно понимал, что именно пулеметчики погибают первыми. В следующую атаку немцы бросили танки. Первый же выстрел танкового орудия повредил единственный в отряде ПТР и тяжело ранил старшину. Свист погиб, кинувшись под танк с бронебойной гранатой. Танки отошли назад, и Глечик оторвался от винтовки. Старшина лежал без сознания. “Самым страшным для Глечика было оказаться свидетелем гибели всегда решительного, властного их старшины”. Овсеев тем временем решил, что самое время смыться. Он выскочил из окопа и рванул через поле. Глечик не мог позволить ему дезертировать. Он выстрелил. Теперь ему одному предстояло закончить бой.
Глечик уже не боялся. В его сознании “предстала абсолютная ничтожность всех его прежних, казалось, таких жгучих, обид”. “Что-то новое и мужественное” входило в душу прежде робкого паренька. Вдруг он услышал “удивительно тоскливые звуки”, полные почти человеческого отчаянья. Это летел к югу журавлиный клин, а за ним, отчаянно пытаясь нагнать стаю, летел одинокий журавлик и жалобно кричал. Глечик понял, что догнать стаю он уже не сможет. В душе Василька “росли и ширились” образы людей, которых он когда-то знал. Охваченный воспоминаниями, он не сразу услышал далекий гул танков. Глечик схватил единственную гранату и стал ждать, а в его душе, охваченной жаждой жизни, все бился журавлиный крик.
Вариант 2
Шла осень 1941 года. Старшине Карпенко и его отряду было поручено задержать немцев на сутки у переезда. Отряд состоял из шести человек. Пшеничный, Фишер, Овсеев, Свист и Глечик заняли свои позиции. Пшеничный самым первым вырыл окоп и укрепил свою позицию. Затем решил перекусить втайне от товарищей. Героизм был неведом Пшеничному и мысленно он уже сдался немцам в плен. Будучи сыном зажиточного кулака, он ненавидел своего отца и дружил с детства с его батраком. Однако из-за своего происхождения постоянно попадал в неприятные ситуации. Нескладная жизнь Пшеничного научила его тому, что он “только сам по себе, сам для себя, вопреки всему”. Выкопанные укрытия соединили рвом. От непогоды бойцы укрылись в станционной сторожке. За сытным перекусом Свист поделился своей жизненной историей. Родился в Саратове, работал на подшипниковом заводе, от безысходности и скуки запил. Когда ему предложили другую работу – встрепенулся и начал зарабатывать, потом влюбился. Но его избранница, к сожалению, была девушкой главаря местной шайки бандитов. После драки Свист попадает в милицию и сдает всю шайку следователю. Вины за собой никакой не чувствует. Провел два года в Сибири, на лесоповале.
Потом был матросом на рыболовном судне. Когда началась война, хотел попасть на фронт. Определили его в стрелковую дивизию. Свист не любил, когда вспоминали его прошлое. Караульный Овсеев “жил сам по себе”, считал себя личностью уникальной и презирал всех вокруг. Завышенную самооценку Алик Овсеев получил в следствии чрезмерной материнской любви. Как он попал на войну, он и сам не понял. Ведь война – точно не то, чего он хотел, и сейчас ему больше всего хотелось просто остаться в живых. Как это сделать в теперешней ситуации он не знал. Вслед за Овсеевым дежурство принял Глечик, боец из Белоруссии, оставивший дома мать и сестру.
Привязанность к матери не дала Глечику смириться с ее вторым браком после смерти отца. Он не смог простить ей этот поступок, но и чувство вины за то, что он ее бросил не покидало Глечика. К тому же, отчим тоже ушел на фронт. Старшина Григорий Карпенко был сыном зажиточного крестьянина и имел трех братьев. Хоть отцовская усадьба досталась старшему брату, а не Григорию, он не сильно печалился. Отслужил в армии, получил медаль, уволился в запас и занял кресло директора завода. Жизнь шла своим чередом. Женился на молодой учительнице Катерине, вывел свой завод в передовики. Все у него получалось, как надо. Когда Григорий уходил на войну, жена его была беременна. Григорий был уверен в своей неуязвимости и ничего не боялся или старался не показывать, что чего-то боится. Борис Фишер – тонкая натура, ученый и интеллигент не мог разобраться в своих чувствах к Карпенко. То его раздражали его командирские нотки и солдафонский юмор, то он с удовольствием выполнял поручения старшины.
Пшеничный хотел сдаться немцам и его расстреляли, Фишера тоже расстреляли, но он успел ранить немецкого офицера. Оставшиеся в живых бойцы пытались сдержать наступление немцев. В душе Глечика жила жажда жизни и звучал журавлиный крик…
Краткое содержание Журавлиный крик Быков
Василь Быков
Журавлиный крик
Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным дорогам земли.
Он выбрал себе тут удобное место, на краю осокового болотца, где оканчивалась насыпь и рельсы укатанной однопутки бежали по гравию почти наравне с землей. Проселок, спускаясь с пригорка, пересекал железную дорогу и сворачивал в сторону леса, образуя перекресток. Его когда-то обнесли полосатыми столбиками и поставили рядом два таких же полосатых шлагбаума. Тут же одиноко ютилась оштукатуренная будка-сторожка, где в стужу дремал у жаркой печки какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Теперь в будке не было никого. Настырный осенний ветер то и дело поскрипывал настежь распахнутой дверью; словно искалеченная человеческая рука, протянулся к студеному небу сломанный шлагбаум, второго совсем не было. Следы явной заброшенности тут лежали на всем, видно, никто уже не думал об этом железнодорожном строении: новые, куда более важные заботы овладели людьми – и теми, кто недавно хозяйничал тут, и этими, что остановились теперь на заброшенном глухом переезде.
Подняв от ветра воротники обтрепанных, заляпанных глиной шинелей, шестеро их стояло группкой у сломанного шлагбаума. Слушая комбата, который объяснял им новую боевую задачу, они жались друг к другу и невесело посматривали в осеннюю даль.
– Дорогу надо перекрыть на сутки, – хриплым простуженным голосом говорил капитан, высокий, костлявый человек с заросшим усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. – Завтра, как стемнеет, отойдете за лес. А день – держаться…
Там, в поле, куда глядели они, высился косогор с дорогой, на которую роняли остатки пожелтелой листвы две большие коренастые березы, и за ними, где-то на горизонте, заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию огромной бритвы, тускло блестела в небе.
Серый осенний вечер, пронизанный холодной, надоедливой мглою, казалось, был наполнен предчувствием неотвратимой беды.
– А как же с шанцевым инструментом? – грубоватым басом спросил старшина Карпенко, командир этой небольшой группы. – Лопаты нужны.
– Лопаты? – задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полоску заката. – Поищите сами. Нет лопат. И людей нет, не проси, Карпенко, сам знаешь…
– Ну да, и людей не мешало бы, – подхватил старшина. – А то что пятеро? Да и то вон один новенький и еще этот «ученый» – тоже мне вояки! – зло ворчал он, стоя вполоборота к командиру.
– Противотанковые гранаты, патроны к пэтээру, сколько можно было, вам дали, а людей нет, – устало говорил комбат. Он все еще всматривался в даль, не сводя глаз с заката, а потом, вдруг встрепенувшись, повернулся к Карпенко – коренастому, широколицему, с решительным взглядом и тяжелой челюстью. – Ну, желаю удачи.
Капитан подал руку, и старшина, уже весь во власти новых забот, равнодушно попрощался с ним. Так же сдержанно пожал холодную руку комбата и «ученый» – высокий, сутулый боец Фишер; без обиды, открыто взглянул на командира новичок, на которого жаловался старшина, – молодой, с печальными глазами рядовой Глечик. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», – беспечно пошутил пэтээровец Свист – белобрысый, в расстегнутой шинели, жуликоватый с виду парень. С чувством собственного достоинства подал свою пухлую ладонь неповоротливый, мордастый Пшеничный. Почтительно, пристукнув грязными каблуками, попрощался чернявый красавец Овсеев. Поддав плечом автомат, командир батальона тяжело вздохнул и, скользя по грязи, направился догонять колонну.
Расстроенные прощанием, они остались все шестеро и какое-то время молча смотрели вслед капитану, батальону, коротенькая, совсем не батальонная колонна которого, мерно покачиваясь в вечерней мгле, быстро удалялась к лесу.
Старшина стоял недовольный и злой. Еще не совсем осознанная тревога за их судьбы и за то нелегкое дело, ради которого они остались здесь, все настойчивее овладевала им. Усилием воли Карпенко, однако, подавил в себе это неприятное ощущение и привычно закричал на людей:
– Ну, чего стоите? Геть за работу! Глечик, поищи-ка ломачину какую! У кого есть лопатки, давай копать.
Ловким рывком он вскинул на плечо тяжелый пулемет и, с хрустом ломая сухой бурьян, пошел вдоль канавы. Бойцы гуськом неохотно потянулись за своим командиром.
– Ну вот, отсюда и начнем, – сказал Карпенко, опускаясь у канавы на колено и всматриваясь в косогор поверх железной дороги. – Давай, Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка у тебя есть, начинай.
Коренастый, крепко сбитый Пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил ее в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от бойца шагов десять вдоль канавы, Карпенко снова присел, посмотрел вокруг, ища глазами, кого назначить на новое место. С его грубоватого лица не сходили озабоченность и злое неудовлетворение теми случайными людьми, которых выделили в его подчинение.
– Ну, кому тут? Вам, Фишер? Хотя у вас и лопатки нет. Тоже мне вояка! – злился старшина, поднимаясь с колена. – Столько на фронте, а лопатки еще не имеете. Может, ждете, когда старшина даст? Или немец в подарок пришлет?
Фишер, испытывая неловкость, не оправдывался и не возражал, только неуклюже горбился и без нужды поправлял очки в черной металлической оправе.
– В конце концов, чем хотите, а копайте, – сердито бросил Карпенко, посматривая куда-то вниз и в сторону. – Мое дело маленькое. Но чтобы позицию оборудовал.
Он направился дальше – сильный, экономный и уверенный в движениях, словно был не командиром взвода, а по меньшей мере командиром полка. За ним покорно и безразлично поплелись Свист и Овсеев. Оглянувшись на озабоченного Фишера, Свист сдвинул на правую бровь пилотку и, показав в улыбке белые зубы, съязвил:
– Вот задачка профессору, ярина зеленая! Помочь не устать, да надо дело знать!..
– Не болтай! Ступай-ка вон к белому столбику на линии, там и копай, – приказал старшина.
Свист свернул в картофляник, еще раз с улыбкой оглянулся на Фишера, который неподвижно стоял у своей позиции и озабоченно теребил небритый подбородок.
Карпенко с Овсеевым подошли к сторожке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски огляделся. Из двух выбитых окон упруго тянул пронизывающий сквозняк, на стене болтался надорванный порыжелый плакат, призывавший разводить пчел. На затоптанном полу валялись куски штукатурки, комья грязи, соломенная труха. Воняло сажей, пылью и еще чем-то нежилым и противным. Старшина молча осматривал скупые следы человеческого жилья. Овсеев стоял у порога.
– Вот кабы стены потолще, было бы укрытие, – подобревшим тоном, рассудительно сказал Карпенко.
Овсеев протянул руку, пощупал отбитый бок печки.
– Что, думаешь, теплая? – строго усмехнулся Карпенко.
– А давайте вытопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться, – оживился боец. – А, старшина?
– Ты что, к теще на блины пришел? Греться! Подожди, вот наступит утро – он тебе даст прикурить. Жарко станет.
– Ну и пусть… А пока что какой смысл мерзнуть? Давай затопим печку, окна завесим… Как в раю будет, – настаивал Овсеев, поблескивая черными цыганскими глазами.
Карпенко вышел из будки и встретил Глечика. Тот тащил откуда-то кривой железный прут. Увидев командира, Глечик остановился и показал находку.
– Вот вместо лома – дробить. А выбрасывать и пригоршнями можно.
Глечик виновато улыбнулся, старшина неопределенно посмотрел на него, хотел по обыкновению одернуть, но, смягчившись наивным видом молодого бойца, сказал просто:
– Ну давай. Вот здесь – по эту сторону сторожки, а я уже – по ту, в центре. Давай, не тяни. Пока светло…
Вечерело. Из-за леса ползли сизые мрачные тучи. Они тяжело и плотно затянули все небо, закрыли блестящую полоску над косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с бешеной осенней яростью теребил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, от сильного ветра выплескиваясь из луж, брызгала на обочину студеными грязными каплями.
Бойцы на переезде дружно взялись за дело: копали, вгрызались в затвердевшую залежь земли. Не прошло и часа, как Пшеничный чуть не по самые плечи зарылся в серую кучу глины. Далеко вокруг, отбрасывая рассыпчатые комья, легко и весело копал свою позицию Свист. Он снял с себя все ремни и одежду и, оставшись в гимнастерке, ловко орудовал маленькой пехотинской лопаткой. В двадцати шагах от него, тоже над линией, время от времени останавливаясь, отдыхая и оглядываясь на друзей, с несколько меньшим старанием окапывался Овсеев. У самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную позицию Карпенко; по другую сторону от него старательно долбил землю раскрасневшийся, потный Глечик. Взрыхлив прутом грунт, он руками выбрасывал комья и снова долбил. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его старшина, и, пряча в рукава озябшие руки, листал какую-то книжку, временами припадая взглядом к ее истрепанным страницам.
Василь Владимирович Быков родился 19 июня 1924 г. в деревне Бычки Ушачского района Витебской области. Обучался на скульптурном отделении Витебского художественного училища. Окончил Саратовское пехотное училище.
В 1942 г. будущий писатель вступил в ряды Красной Армии. Воевал на Втором и Третьем Украинских фронтах, прошел по территории Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, дважды был ранен.
Впервые произведения Василя Быкова были опубликованы в 1947 г., однако, творческая биография писателя начинается с рассказов, написанных в 1951 г. Тематика ранних рассказов, действующими лицами которых стали солдаты и офицеры, определила дальнейшую судьбу Быкова. Многие из произведений которого посвящены Великой Отечественной войне, а прозу позже стали называть «лейтенантской», встреченной в штыки официальной критикой за «окопную правду», «дегероизацию», «абстрактный гуманизм».
С 1955 г. Быков занимался только литературной деятельностью, а с 1972 по 1978 г. – секретарь Гродненского отделения Союза писателей БССР.
В 1960-е опубликованы повести «Альпийская баллада», «Мертвым не больно», в 1970-е – «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться». Эти произведения поставили Василя Быкова в один ряд с выдающимися мастерами военной прозы ХХ столетия. Большинство своих произведений Василь Быков писал по белоруски, а начиная с повести «Дожить до рассвета» сам переводит свои произведения на русский язык, но гораздо важнее то, что они стали органической и очень существенной частью и русской литературы, русского литературного процесса.
Бескомпромиссность произведений Быкова стала причиной травли, в которой писателя обвиняли в очернении советских устоев. А он рассказывал лишь о том, какое безмерно тяжкое это дело – бытие человека. Как безжалостна к человеку жизнь и как сам он безжалостен. Особенно жестоким нападкам подверглись повести Быкова «Мертвым не больно» (1966), «Атака с ходу» (1968) и «Круглянский мост» (1969) – по команде сверху в самых авторитетных органах печати были напечатаны разгромные с политическими обвинениями статьи. В результате книжное издание повести «Круглянский мост» появилось после журнальной публикации через 11 лет, «Атаки с ходу» – через 18, «Мертвым не больно» – только через 23 года.
В 1974 г. Василь Быков был награжден Государственной премией СССР (за повесть «Дожить до рассвета», 1973), в 1980 г. получил звание Народного писателя Беларуси, в 1986 г. – был награжден Ленинской премией за повесть «Знак беды».
Некоторые произведения писателя («Третья ракета», «Дожить до рассвета», «Обелиск», «Знак беды») были экранизированы.
Народный писатель Беларуси Василь Быков умер 22 июня 2003 г., похоронен на Восточном (Московском) кладбище в Минске (Белоруссия).
Василь Быков
Журавлиный крик
Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным дорогам земли.
Он выбрал себе тут удобное место, на краю осокового болотца, где оканчивалась насыпь и рельсы укатанной однопутки бежали по гравию почти наравне с землей. Проселок, спускаясь с пригорка, пересекал железную дорогу и сворачивал в сторону леса, образуя перекресток. Его когда-то обнесли полосатыми столбиками и поставили рядом два таких же полосатых шлагбаума. Тут же одиноко ютилась оштукатуренная будка-сторожка, где в стужу дремал у жаркой печки какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Теперь в будке не было никого. Настырный осенний ветер то и дело поскрипывал настежь распахнутой дверью; словно искалеченная человеческая рука, протянулся к студеному небу сломанный шлагбаум, второго совсем не было. Следы явной заброшенности тут лежали на всем, видно, никто уже не думал об этом железнодорожном строении: новые, куда более важные заботы овладели людьми - и теми, кто недавно хозяйничал тут, и этими, что остановились теперь на заброшенном глухом переезде.
Подняв от ветра воротники обтрепанных, заляпанных глиной шинелей, шестеро их стояло группкой у сломанного шлагбаума. Слушая комбата, который объяснял им новую боевую задачу, они жались друг к другу и невесело посматривали в осеннюю даль.
Дорогу надо перекрыть на сутки, - хриплым простуженным голосом говорил капитан, высокий, костлявый человек с заросшим усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. - Завтра, как стемнеет, отойдете за лес. А день - держаться…
Там, в поле, куда глядели они, высился косогор с дорогой, на которую роняли остатки пожелтелой листвы две большие коренастые березы, и за ними, где-то на горизонте, заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию огромной бритвы, тускло блестела в небе.
Серый осенний вечер, пронизанный холодной, надоедливой мглою, казалось, был наполнен предчувствием неотвратимой беды.
А как же с шанцевым инструментом? - грубоватым басом спросил старшина Карпенко, командир этой небольшой группы. - Лопаты нужны.
Лопаты? - задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полоску заката. - Поищите сами. Нет лопат. И людей нет, не проси, Карпенко, сам знаешь…
Ну да, и людей не мешало бы, - подхватил старшина. - А то что пятеро? Да и то вон один новенький и еще этот «ученый» - тоже мне вояки! - зло ворчал он, стоя вполоборота к командиру.
Противотанковые гранаты, патроны к пэтээру, сколько можно было, вам дали, а людей нет, - устало говорил комбат. Он все еще всматривался в даль, не сводя глаз с заката, а потом, вдруг встрепенувшись, повернулся к Карпенко - коренастому, широколицему, с решительным взглядом и тяжелой челюстью. - Ну, желаю удачи.
Капитан подал руку, и старшина, уже весь во власти новых забот, равнодушно попрощался с ним. Так же сдержанно пожал холодную руку комбата и «ученый» - высокий, сутулый боец Фишер; без обиды, открыто взглянул на командира новичок, на которого жаловался старшина, - молодой, с печальными глазами рядовой Глечик. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», - беспечно пошутил пэтээровец Свист - белобрысый, в расстегнутой шинели, жуликоватый с виду парень. С чувством собственного достоинства подал свою пухлую ладонь неповоротливый, мордастый Пшеничный. Почтительно, пристукнув грязными каблуками, попрощался чернявый красавец Овсеев. Поддав плечом автомат, командир батальона тяжело вздохнул и, скользя по грязи, направился догонять колонну.
Расстроенные прощанием, они остались все шестеро и какое-то время молча смотрели вслед капитану, батальону, коротенькая, совсем не батальонная колонна которого, мерно покачиваясь в вечерней мгле, быстро удалялась к лесу.
Старшина стоял недовольный и злой. Еще не совсем осознанная тревога за их судьбы и за то нелегкое дело, ради которого они остались здесь, все настойчивее овладевала им. Усилием воли Карпенко, однако, подавил в себе это неприятное ощущение и привычно закричал на людей:
Ну, чего стоите? Геть за работу! Глечик, поищи-ка ломачину какую! У кого есть лопатки, давай копать.
Ловким рывком он вскинул на плечо тяжелый пулемет и, с хрустом ломая сухой бурьян, пошел вдоль канавы. Бойцы гуськом неохотно потянулись за своим командиром.
Ну вот, отсюда и начнем, - сказал Карпенко, опускаясь у канавы на колено и всматриваясь в косогор поверх железной дороги. - Давай, Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка у тебя есть, начинай.
Коренастый, крепко сбитый Пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил ее в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от бойца шагов десять вдоль канавы, Карпенко снова присел, посмотрел вокруг, ища глазами, кого назначить на новое место. С его грубоватого лица не сходили озабоченность и злое неудовлетворение теми случайными людьми, которых выделили в его подчинение.
Ну, кому тут? Вам, Фишер? Хотя у вас и лопатки нет. Тоже мне вояка! - злился старшина, поднимаясь с колена. - Столько на фронте, а лопатки еще не имеете. Может, ждете, когда старшина даст? Или немец в подарок пришлет?
Фишер, испытывая неловкость, не оправдывался и не возражал, только неуклюже горбился и без нужды поправлял очки в черной металлической оправе.
В конце концов, чем хотите, а копайте, - сердито бросил Карпенко, посматривая куда-то вниз и в сторону. - Мое дело маленькое. Но чтобы позицию оборудовал.
Он направился дальше - сильный, экономный и уверенный в движениях, словно был не командиром взвода, а по меньшей мере командиром полка. За ним покорно и безразлично поплелись Свист и Овсеев. Оглянувшись на озабоченного Фишера, Свист сдвинул на правую бровь пилотку и, показав в улыбке белые зубы, съязвил:
Вот задачка профессору, ярина зеленая! Помочь не устать, да надо дело знать!..
Не болтай! Ступай-ка вон к белому столбику на линии, там и копай, - приказал старшина.
Свист свернул в картофляник, еще раз с улыбкой оглянулся на Фишера, который неподвижно стоял у своей позиции и озабоченно теребил небритый подбородок.
Карпенко с Овсеевым подошли к сторожке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски огляделся. Из двух выбитых окон упруго тянул пронизывающий сквозняк, на стене болтался надорванный порыжелый плакат, призывавший разводить пчел. На затоптанном полу валялись куски штукатурки, комья грязи, соломенная труха. Воняло сажей, пылью и еще чем-то нежилым и противным. Старшина молча осматривал скупые следы человеческого жилья. Овсеев стоял у порога.
Вот кабы стены потолще, было бы укрытие, - подобревшим тоном, рассудительно сказал Карпенко.
Овсеев протянул руку, пощупал отбитый бок печки.
Что, думаешь, теплая? - строго усмехнулся Карпенко.
А давайте вытопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться, - оживился боец. - А, старшина?
Ты что, к теще на блины пришел? Греться! Подожди, вот наступит утро - он тебе даст прикурить. Жарко станет.
Ну и пусть… А пока что какой смысл мерзнуть? Давай затопим печку, окна завесим… Как в раю будет, - настаивал Овсеев, поблескивая черными цыганскими глазами.
Карпенко вышел из будки и встретил Глечика. Тот тащил откуда-то кривой железный прут. Увидев командира, Глечик остановился и показал находку.
Вот вместо лома - дробить. А выбрасывать и пригоршнями можно.
Глечик виновато улыбнулся, старшина неопределенно посмотрел на него, хотел по обыкновению одернуть, но, смягчившись наивным видом молодого бойца, сказал просто:
Ну давай. Вот здесь - по эту сторону сторожки, а я уже - по ту, в центре. Давай, не тяни. Пока светло…
Вечерело. Из-за леса ползли сизые мрачные тучи. Они тяжело и плотно затянули все небо, закрыли блестящую полоску над косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с бешеной осенней яростью теребил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, от сильного ветра выплескиваясь из луж, брызгала на обочину студеными грязными каплями.
Василь Владимирович Быков
Журавлиный крик
Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным магистралям страны.
Он выбрал себе довольно подходящее место, на краю осоковатой болотистой низинки, где оканчивалась насыпь и рельсы укатанной однопутки недолго бежали вровень с землей. Грязный разъезженный проселок, что сползал с пологого пустого пригорка, пересекал здесь железную дорогу и, обогнув край картофельного поля, сворачивал в сторону леса.
Переезд был старый, некогда заботливо ухоженный, с полосатыми столбиками и такими же полосатыми шлагбаумами по сторонам старенькой, оштукатуренной будки-сторожки, в которой возле жарко натопленной углем печки дремал какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Как издавна заведено на всех переездах, он скучающе поглядывал в окно на нечастых здесь путников и оживлялся лишь перед приходом поезда, когда спешил опустить черно-белые дышла шлагбаумов. Теперь же дорога в оба конца лежала пустая, никого не было и на грязном разбитом проселке, поодаль валялся втоптанный в грязь шлагбаум; а в будке-сторожке самовластно хозяйничал напористый осенний ветер, нудно поскрипывавший распахнутой настежь дверью. Казалось, никому уже не было дела до этого заброшенного переезда, этого унылого поля и этих неизвестно где начинавшихся и невесть куда уходящих дорог.
Но дело нашлось, постепенно прояснялось в сознании всех шестерых, уныло стоявших на ветру с поднятыми воротниками шинелей и слушавших комбата. Тот ставил им новую боевую задачу.
– Дорогу перекрыть на сутки, – простуженным голосом говорил капитан, высокий костлявый человек с усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. – Завтра к вечеру отойдете за лес. А день – держаться...
Перед ними в осеннем поле высился косогор с дорогой, на которую сыпали пожелтелую листву две большие коренастые березы, и где-то на горизонте заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию бритвы, тускло блестела в небе.
– А с шанцевым инструментом как? – прокуренным басом спросил старшина Карпенко, командир этой небольшой группы. – Лопаты нужны.
– Лопаты? – задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полоску заката. – Поищите сами. Нет лопат, И людей нет, не проси, Карпенко, сам знаешь...
– Да, и людей не мешало бы, – подхватил старшина. – А то что пятеро? И то вон один новенький, а другой шибко «ученый» – тоже вояки! – зло ворчал он, стоя вполоборота к комбату.
– Противотанковые гранаты, патроны к пэтээру, сколько можно было, вам дали, а людей нет, – устало говорил комбат. Он все еще всматривался в даль, не сводя глаз с заката, а потом, вдруг встрепенувшись, повернулся к Карпенко – коренастому человеку с тяжелым малоподвижным взглядом. – Ну, желаю удачи.
Капитан подал руку, и старшина, уже весь во власти новых забот, равнодушно пожал ее. Также сдержанно пожал холодную руку комбата и «ученый» – высокий, сутулый боец Фишер; без обиды, открыто взглянул на командира новичок, на которого жаловался старшина, – молодой, с наивными глазами, рядовой Глечик. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», – беспечно пошутил пэтээровец Свист – белобрысый, в расстегнутой шинели, шустрый с виду боец. С чувством сдержанного достоинства подал свою пухлую ладонь неповоротливый, мордастый Пшеничный. Почтительно, пристукнув грязными каблуками, попрощался чернявый красавец Овсеев. Поддав плечом автомат, командира батальона тяжело вздохнул и, скользя по грязи, пустился догонять колонну.
Озабоченные выпавшей на их долю новой задачей, шестеро какое-то время молча смотрели вслед капитану, батальону, коротенькая, совсем не батальонная колонна которого, мерно покачиваясь в вечерней мгле, медленно удалялась к лесу.
Впереди всех молча стоял злой и недовольный старшина Карпенко. Какая-то еще не совсем осознанная тревога все настойчивее овладевала им. Усилием воли Карпенко, однако, подавил ее и обернулся к маленькой группе притомившихся, озябших на ветру и примолкших бойцов.
– Ну, чего стоите? Геть за работу! У кого есть лопатки, копать. Пока светло...
Привычным рывком он вскинул на плечо тяжелый ручной пулемет и, с хрустом ломая придорожные стебли бурьяна, пошел вдоль канавы. Остальные нехотя потянулись за своим командиром.
– Ну вот, отсюда и начнем, – сказал Карпенко, опускаясь на колено у канавы и выглядывая поверх железной дороги. – Давай, Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка есть? Начинай.
Коренастый, крепко сбитый Пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от него шагов десять вдоль по канаве, Карпенко снова присел и оглянулся, ища глазами, кого назначить на новое место. С его грубоватого лица не сходили озабоченность и злое неудовлетворение теми случайными людьми, которых выделили для выполнения этой далеко не легкой задачи.
– Ну, кому тут? Фишеру, что ли? Хотя у него же и лопатки нет. Тоже вояка! – озлился старшина, поднимаясь с колена. – Сколько на фронте, а лопатки еще не достал. Ждет, наверно, когда старшина даст? Или немец в подарок пришлет?
Фишер, заметно задетый длинным упреком, не оправдывался и не возражал, только неуклюже горбился и без нужды поправлял на носу очки в черной металлической оправе.
– В конце концов, чем хотите, а копайте! – бросил Карпенко, глядя, как это он всегда делал, когда выговаривал, куда-то вниз и в сторону. – Мое дело маленькое. Но чтобы позицию оборудовал.
Он направился дальше, сильный и уверенный в словах и движениях, словно был не командиром взвода, а, по меньшей мере, командиром полка. За ним покорно поплелись Свист и Овсеев. Оглянувшись на Фишера, Свист сдвинул на правую бровь пилотку и, показав в улыбке белые зубы, съязвил:
– Задачка профессору, ярина зеленая! Попотеет, ха!
– Не болтай, – живо оборвал старшина. – Марш вон к белому столбику на линии и копай.
Свист свернул в картофляник, еще раз с улыбкой оглянулся на Фишера, который неподвижно стоял у своей позиции и озабоченно теребил небритый подбородок.
Карпенко с Овсеевым подошли к сторожке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски оглядел помещение. Из выбитого окна дул сквозной ветер, на стене болтались обрывки порыжелого плаката, некогда призывавшего разводить пчел. Пол был засыпан кусками штукатурки, комьями грязи, соломенной трухой. Воняло сажей, пылью и еще чем-то нежилым и противным.
– Кабы стены потолще, было бы укрытие, – несколько другим тоном, рассудительно сказал Карпенко. Овсеев протянул руку, пощупал отбитый бок печки.
– Что, думаешь, теплая? – сдержанно усмехнулся старшина.
– А давайте протопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться, – оживился боец. – А, старшина?
– Ты что, к теще на блины прибыл? Греться! Подожди, вот придет утро – он тебя согреет. Жарко станет.
– Ну что ж... А пока какой смысл мерзнуть? Затопим печку, окна завесим... Как в раю будет, – настаивал Овсеев, поблескивая черными цыганскими глазами.
– Хватит болтать. Становись вон за Свистом и окапывайся.
Выйдя из будки, Карпенко столкнулся с Глечиком, который тащил откуда-то согнутый железный прут.
– Вот ковырять вместо лома. А выбрасывать и пригоршнями можно, – сконфуженно улыбнулся Глечик.
Старшина придирчиво взглянул на него, но, не найдя, чем упрекнуть, сказал просто:
– Так. Давай вот здесь – по эту сторону сторожки, а я – по ту, в центре. И не тяни. Пока светло, чтоб окопался.
Вечерело. Из-за леса ползли сизые, набрякшие влагой тучи. Они тяжело и плотно обложили небо и совершенно стерли блестящую полоску над косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с осенней яростью теребил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, выплескиваясь из луж от сильных порывов ветра, кропила обочину студеными грязными брызгами.
Бойцы на переезде дружно взялись за дело: копали, вгрызались в затвердевшую залежь земли. Не прошло и часа, как Пшеничный чуть не по самые плечи зарылся в серую кучу глины. Далеко вокруг отбрасывая рассыпчатые комья, легко и весело оборудовал свою позицию Свист. Он снял с себя все ремни и шинель и, оставшись в гимнастерке, ловко орудовал маленькой пехотинской лопаткой. В двадцати шагах от него, тоже над линией, время от времени останавливаясь, отдыхая и оглядываясь на друзей, с несколько меньшим старанием окапывался Овсеев. У самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную позицию Карпенко; по другую сторону от него старательно долбил землю раскрасневшийся, потный Глечик. Взрыхлив прутом грунт, он руками выбрасывал комья и снова долбил. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его старшина, и озябшими руками листал какую-то книжку.